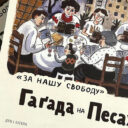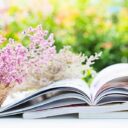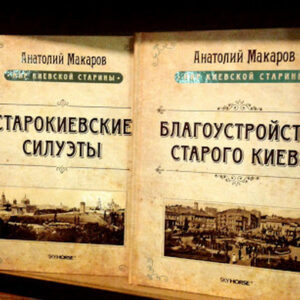Как это начиналось: как всегда такие «коммуны художников» начинаются, все ищут помещение для мастерских. Занимались заброшенные дома, это был 1984-й год, дом, о котором идет речь находился на ул.Парижской коммуны, 18а (ныне ул.Михайловская). Отсюда и название – «Паркоммуна», или «Парком».
В 1984-м это еще не было «Паркоммуной» в смысле артгруппы, но там уже стали селиться художники. Место было хорошее, огромный пустой дом, каждый мог занять по комнате. По-настоящему «Паркоммуну» стали заселять в начале 90-х, начался капремонт в самом большом на тот момент киевском сквоте – на углу улиц Ленина (нынешняя ул.Богдана Хмельницкого) и Франка (дом, где сейчас Макдональдс), и художники переместились на «Паркоммуну» (кажется, тогда уже улица вновь стала называться Михайловской, но предпочитали называть «Паркоммуной», по привычке и не только). У Голосия была там мастерская, Саша Гнилицкий жил там семейно, с маленькой дочкой. У меня тогда была мастерская в другом месте, так что я был «приходящим». У Савадова, Сенченко и Керестея мастерские были рядом, на Софиевской.
Дом был огромный и пустой, места было предостаточно, зимой было холодно и утеплялись, как могли, какая-то часть людей на зиму уходила, но летом там было нормально. Холодная вода и электричество были. При этом ощущение коммуналки, когда жизнь у всех на виду. Клименко, помнится, у себя все завесил тканями, забавно это было… Впрочем, мне не кажется, что Клименко – по духу – принадлежал к «Паркому», но жил он там постоянно.
Была ли там какая-то отдельная «концепция жизни»? Не знаю, но было ощущение свободы: границ нет, рамок нет, Союз художников нам не указ, огромное количество выставок – после советской очередности и календарности…, иными словами, в момент проживания это не было «концепцией», но ощущалось как тотальная свобода и полнота жизни. До сих пор у меня какая-то ностальгия по «Паркоммуне»: это было честное время.
По музыке – это было время «Депеш мод»: помню, приезжали две девушки из Одессы и пели все это на два голоса, – очень заводило. Рядом была одна из двух культовых кофеен Паркоммуны, просто в соседнем доме, там еще была дурацкая кафельная плитка, все сидели на корточках, курили на улице.
Когда собираются вместе люди – умные, талантливые и креативные, может быть по-разному, и нельзя сказать, что все было гладко, но в целом очень человечно было. Это была одна команда, и собственно, сама ситуация – этот дом, в котором вместе жили и работали, – спровоцировали художественное явление: у каждого был свой язык, но в любой отдельной работе «паркомовцев» сразу видно, что это «Парком».
Параллельно в Москве была «Новая волна», и отчасти «Паркоммуна» повлияла на москвичей: Москва была и осталась концептуально холодной, а в «Паркоммуне» всегда ощущалась эмоция, какая-то энергия… южная, очень сильная. Это было живое письмо, сознательно уходящее от школьного академизма. Особенно хорошо это видно у Васи Цаголова: он долго держался за академический стиль после института, его первые работы жесткие, тяжелые, в темных, коричневых тонах, потом он стал легче, он стал как бы «недописывать»…
Конечно, там влияли и французы, и Франческо Клементе: в конце 80-х «железный занавес» приоткрылся, мы сами стали ездить, привозили книги и каталоги. Я первый раз в Италию выехал в 87-м: за Чернобыль меня наградили.
С другой стороны, из Москвы шло много информации, там ее вообще всегда больше было. Мы ездили в московские мастерские, ходили, смотрели. Потом была выставка в Манеже и колоссальная (в буквальном смысле) «Печаль Клеопатры» Савадова и Сенченко. Ее тогда купили французы, и это был первый прорыв нового украинского искусства. Это была первая работа, которая всерьез повлияла на художественный процесс. И это было официальное признание: и на Западе, и в Москве, наверное, это и было началом «нового украинского искусства». Там, в Манеже, выставлялись москвичи с гиперреалистическими полотнами, все это очень впечатляло, но было вторично, там не было той странности и необычности. «Клеопатра» же была очевидно «южной» – и по письму, и по колориту, и по энергии.
Мюнхен это отдельная история:
На пике «Паркома», весной 1992-го, появился человек, звали его Кристоф Видеман (Christoph Wiedemann), он был арткритик и отчасти артдилер. Он приехал в тот момент, когда в выставочном зале Союза художников на Горького (там где потом был Французский культурный центр) открывалась выставка «Штиль». Я тогда был первый, кто выставил фотографии. Тогда это странно смотрелось, в основном выставляли живопись. Хотя и Чичкан, и Савадов уже использовали фото, но конкретно фото не выставляли. Единственная была фотография Тистола, смешная такая, на пластике, там было два снимка самого Тистола – в шапке и без шапки – на фоне гор. И я выставил пять фотографий черно-белых.
И вот появился Кристоф, он ходил по разным мастерским и галереям с какими-то своими идеями, естественно приходил и в «Парком». Потом уже в сентябре была выставка «ЛИТО», ее, как и «Штиль», организовал Александр Соловьев, это была очень большая выставка в помещении Союза художников на Львовской площади. Я там делал хепенинг вместе с мексиканцем Адриано Сото, он назывался «Отрицание отрицания»: фотография там отрицала живопись, а живопись – фотографию. Там меня и нашел Видеман и предложил поехать в Мюнхен. У него уже была набрана группа – в основном «паркомовцы»: Александр Гнилицкий, Олег Голосий, Георгий Сенченко, Арсен Савадов и Павел Керестей, и близкие «Паркому» одесситы Александр Ройтбурд и Дмитрий Дульфан. И так мы поехали в Мюнхен на деньги «Шпильмотор» (это была такая дочерняя компания BMW) и четыре месяца там работали. В итоге сделали выставку (всего там было две выставки, первая называлась «Диалог с Киевом», она состояла из киевских работ, вторая была собрана ближе к зиме и называлась PostAnaestesia). Вторую выставку повезли еще в Лейпциг.
В принципе этот мюнхенский период был своего рода «взлетом» «Паркомунны», ее «золотым сечением». К середине 90-х уже все развалилось. Просто сквота не стало: помещение забрали, дом поставили на капремонт в 1994-м, и все разбежались.