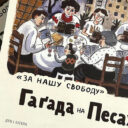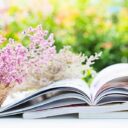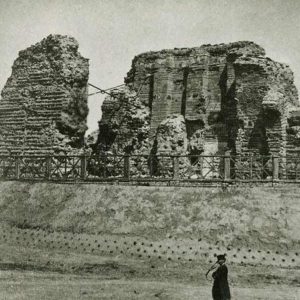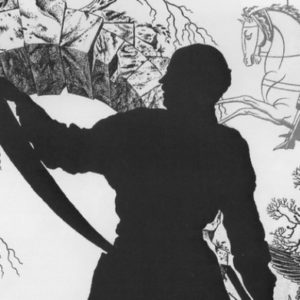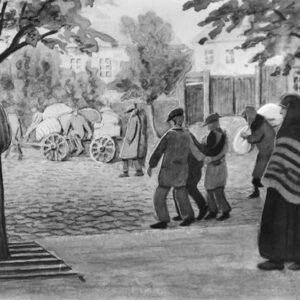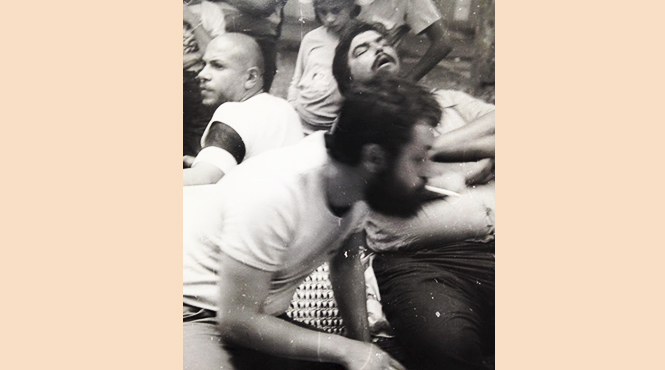Если говорить всерьез о нашем поколении — о тех, кто учился в 70-е и начал работать и выставляться в 80–90-е, по большому счету, мы — поколение РХСШ. Это очень заметно, это вычисляется на раз. РХСШ — наша бурса, место, с которого все начиналось.
Школа слишком многое определяет в нас, — в том, что мы делаем, с кем дружим и кем себя ощущаем. РХСШ, в принципе, очень много значила в Киеве 1970-х. Эта школа в свое время подняла профессиональную планку, и сейчас, когда название поменяли: из РХСШ (Республиканская художественная средняя школа) она превратилась в ДХСШ (Державна художня середня школа), — что-то очень важное ушло. Может, не в названии дело, но в этом был дух, это был пароль. В общем, на это было многое положено. Такие вещи делать нельзя (мне так кажется, во всяком случае).
Я застал школу в 70-е, но ей много лет, она открылась еще до войны, в 1937-м, сначала располагалась в доме Каракиса (Владимирская, 2), затем, до 1968-го — в помещении Художественного института на Смирнова-Ласточкина, потом на Герцена, с 1968-го и по сей день — на Сырце (Кузьминская, 4).
РХСШ — я сейчас скажу не без пафоса, но это правда, — определяла судьбу: ты туда поступал, и дальше уже все было понятно, — ты никуда не денешься из этого мира. Как ты будешь там обретаться — это уже другой вопрос. Важно то, что было в начале.
Как я оказался в РХСШ? Я учился в 4-м классе 135-й киевской школы (хорошей старой школы, кстати). Мой роман со скрипкой на тот момент закончился, едва начавшись. Рисовать мне нравилось больше, — это было вольное занятие, короче говоря, родители решили, что я должен учиться рисовать. Так я попал в РХСШ. На самом деле, профессионально я был совершенно не подготовлен: там были свои требования, — нужно было нарисовать куб (рисунок), натюрморт (акварель) и композицию на свободную тему. А я все больше рисовал конников, индейцев, рыцарей — разных мужественных людей. Рисовал как бы по-взрослому, т. е., с детской точки зрения, хорошо. Но я не имел представления о линейной перспективе и прочих полезных вещах. А у моих родителей был приятель, художник Дмитрий Даревский, и он стал готовить меня к экзаменам: мы рисовали кубы и натюрморты, составляли композиции. В итоге композицию я все равно нарисовал свою — что-то футбольное. Но это был настоящий серьезный экзамен — на выбывание. Мама боялась, что по причине известного пункта я не пройду, и пыталась проводить какую-то работу. Но как я потом узнал, в РХСШ был удивительный директор — Александр Федорович Музыка, он был человек очень мягкий, любил детей и не любил регламентацию (всегда ведь было так: столько-то мест для этих, столько — для тех, квота для детей художников и т. д.). Он старался брать «поверх барьеров». Он был отличный организатор: это он «выбил» здание на Сырце, прежде школа мыкалась по чужим углам. Он был фанат школы, и школа при нем процветала. Он был фронтовик, моряк, герой — совершенно замечательный человек. Ни один из тех, кто учился при нем, не сказал о нем дурного слова. Он не мог отменить систему, но он пытался смягчить ее. Он мог сказать на родительском собрании: «Батьки, ви там за чаркою щось розповідаєте, анекдоти тощо, так ми тут все знаємо», – т. е. он предупреждал: «Ребята, будьте бдительны!»
А вообще школа была веселая. Тут важная деталь: только три школы тогда не относились к министерству просвещения, а шли по ведомству министерства культуры: Музыкальная школа им. Лысенко, Хореографическое училище и РХСШ (еще училище Глиера, но оно было на уровне техникума). Это означало, что у нас не было школьной формы: все ходили в форме, а мы нет. Все было не так жестко. Какой-то дух свободы витал над нами. У всех занятия начинались в 8:30, а у нас в 9:30. Мы ужасно гордились, мы знали, что школа Республиканская, что учиться сюда приезжают со всей Украины. С 5-го класса дети уже были вполне самостоятельны, уезжали из дома и жили в общежитии. Была своя отдельная жизнь, своя среда, и это случилось очень рано.
Опять же — 20–30 часов в неделю — профессиональные занятия: рисунок, живопись, тут хочешь — не хочешь, чему-то научишься. Все школы были десятилетки, а РХСШ одиннадцатилетка, т. е. мы учились семь лет после 4-го класса общеобразовательной. И уровень был такой, что когда я потом учился в Полиграфическом, то только в книжном отношении я научился чему-то новому, а уровень рисунка — это РХСШ. То же можно сказать об Академии: кто-то там, наверное, стал рисовать профессиональнее, но что-то ушло, какой-то дух той школьной свободы, буйства (впрочем, это мне сегодня так кажется, кто-то, возможно, думает иначе).
Это были киевские 70-е: я поступил в 1970-м, закончил в 1977-м. Лесь Подервянский старше, я не помню его в РХСШ, но «барковиана», которая клубилась вокруг Художественного института, все эти «хамські пісні» на суржике, т. н. «киевская альтернатива», — все это проникало и в РХСШ.
У нас был завуч, Семен Алексеич, фамилии не помню, но он, кажется, был не то смершевец, не то из органов, серьезный человек, короче говоря. И он любил устраивать «стрижки». Мы, в духе «христианской иронии», с готовностью шли сразу во все поприща, и однажды класс Сетика Бароянца поголовно побрился «под ноль», а в туалете появилась надпись: «Сеня, не все стриги, что растет. Козьма Прутков». А на каждой парте в кабинете биологии было выцарапано: «А под портретом Мичурина написано слово». И действительно, под портретом Мичурина было написано слово. И как наша замечательная учительница биологии Нина Григорьевна с этим не боролась, оно было написано всегда.
Еще про парты: как-то Семен Алексеич решил устроить выставку парт, разрисованных РХСШовцами. Она задумывалась как выставка в стиле Геббельса: т. е. выставить на позор все это гнилое и больное неправильное искусство. Как и у Геббельса, получилось все наоборот. Я был еще маленький, помню, в актовом зале стояли парты, и на одной была изображена сборная Канады по хоккею 1972 года, в полном составе. Началось массовое паломничество, выставку быстро свернули, парты немедленно закрасили, но если бы оставили, это сейчас были бы очень дорогие артефакты.
Я могу долго рассказывать: я там 7 лет учился и 7 лет могу рассказывать. Весь наш «стояк» на Лукьяновской (сквот художников на Лукьяновской. — Ред.) — бывшие РХСШовцы, так что это со мной всегда. Я однажды в Чите, когда служил в армии, увидел надпись на вокзале «РХСШ» и чуть не расплакался. РХСШ можно встретить где угодно. Имя поменяли, и, повторяю, нельзя было это делать, но, так или иначе — она существует. И у меня подрастает сын. Он пытается рисовать, посмотрим, что из этого выйдет. Школа осталась.