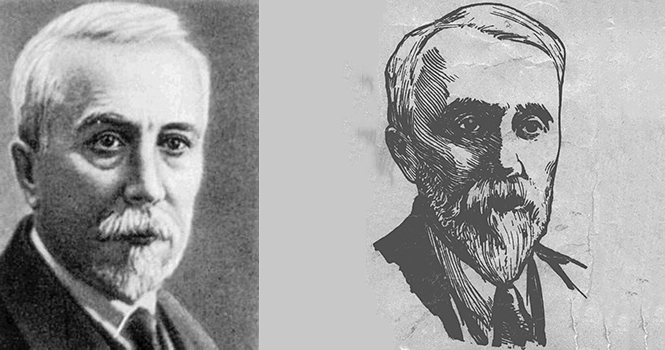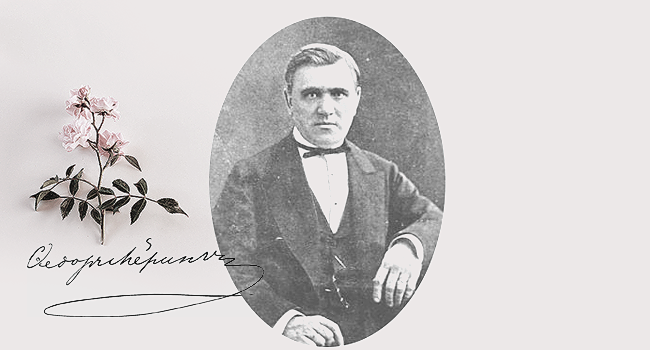Врач-психиатр Семен Глузман не собирался становиться диссидентом, острое чувство справедливости заставило его решиться на проведение громкой заочной экспертизы, результатом которой для него были семь лет лагерей за антисоветскую агитацию. Эта часть разговора с Семеном Глузманом – об инакомыслии и карательной психиатрии.
Психиатрия становится узаконенной формой подавления инакомыслия еще в начале 1960-х. Генерал Петр Григоренко в 1961 году выступает на партконференции с критикой политики партии. Его переводят c понижением на Дальний Восток, но он и там продолжает антипартийную агитацию. Григоренко доставляют в столичный КГБ. Сам председатель КГБ Семичастный предлагает ему пойти на компромисс, но генерал непреклонен. Вместо суда его отправляют в Институт Сербского, на экспертизу.
В 1964 году Григоренко признали невменяемым и отправили в знаменитую Ленинградскую спецбольницу, его будут ждать ужасы сумасшедшего дома и тюрьмы.
Как вы решились на заочную экспертизу?
С первых дней учебы в медицинском институте я решил, что буду психиатром. Это странное решение, но я его, как огонек первой влюбленности, все время поддерживал. В 60-х уже было известно про злоупотребления в психиатрии, известны фамилии людей, которые были помещены в психбольницу. Знать это было все равно, что узнать, что девушку, которую вы любите, принудительно водят на панель. Я уже был знаком с Виктором Платоновичем Некрасовым, с Леней Плющом. Однажды я спросил Плюща: «Лень, неужели нет ни одного психиатра (а в СССР было порядка 30 000 психиатров), готового выступить против?» А он: «Нет, конечно. Физики-теоретики могут работать с карандашом и бумагой на кухне. Твоим коллегам нужна клиника, люди боятся. У Сахарова есть негласные консультанты, но не более того».
Здесь сыграло эмоциональную роль еще вот что: мой отец, коммунист с 25-го года, профессор, не психиатр, воспитывал меня откровенно и правильно, он не просто рассказывал о сталинских репрессиях и своих друзьях по комсомолу, погибших в тюрьмах. Он мне говорил правду о том, что огромное количество евреев (точную цифру он не знал, да и не мог знать) служило в карательных органах и занималось тем, чем занималось. Я переживал это остро. И тут я узнаю, а я был плохо ориентирован, и тогда это было для меня абсолютной правдой, что главным палачом является заведующий 4-м отделением Института Сербского Даниил Романович Лунц.
И тогда я решил: раз Лунц наворотил, значит Глузман должен исправить. Это было наивное и романтическое решение. Во-первых, я очень не хотел в тюрьму, никак туда не стремился. Во-вторых, я ничего не знал о судебной психиатрии, пришлось покупать всю юридическую литературу, которая продавалась в Киеве. Я долго ее покупал, и когда ребята из КГБ проводили у меня был обыск, то решили, что я очень крутой знаток советского права. Десятки книг – я просто не понимал где искать то, что будет важным для моей экспертизы.
Со временем я узнал, что главный палач совсем не Лунц, а Снежневский, который никакого отношения к евреям не имеет, но решение уже было принято. Сначала я написал вступление и заключение, – публицистику, и потом остановился на несколько месяцев – не понимал, что дальше делать. Спасла ситуацию (или наоборот) адвокат Григоренко, Софья Васильевна Каллистратова. Не зная, кому именно, она передала в Киев рукописи и все медицинские документы Григоренко через его сына, Андрея. Она, конечно, рисковала своей головой. Это мне очень помогло, публицистикой ведь в экспертном заключении не обойдешься, нужны доказательства, а благодаря Каллистратовой у меня на руках были все документы ГэБэ.
Я закончил мединститут. Год работал в Житомире, потом в Коростене Житомирской области. Вместо того, чтобы пить хорошее сухое вино и ухаживать за девушками, я приходил с работы, садился и копался в документах. Я работал с ними около года. Потом привез рукопись в Киев, нашел машинистку, которая за меня потом пострадала. И уже готовый документ Виктор Некрасов отвез в Москву, Сахарову.

Фото Виктора Некрасова, примерно 1970
В ноябре 1971 года Андрей Дмитриевич с Еленой Боннер приехали в Киев. Нас познакомил Некрасов на киевском вокзале. Боннер, увидев меня, всплеснула руками: «Боже, какой мальчик»! Сахаров сказал теплые слова о моей работе. Но это было легко – мое заключение было единственным, сравнивать было не с чем.
Сначала я не понимал, зачем была встреча. Потом понял: я не подписал экспертизу, ведь я не хотел в тюрьму. Я обычный человек, я не герой. Они приехали просить подпись, и когда увидели, что перед ними не зрелый мужчина, а романтический юноша, то поняли, что не могут ее просить.
Вывод вашей экспертизы?
Я пришел к выводу, что Григоренко здоров, и всегда был здоров. И нужно расследовать работу врачей, которые нарушили не только нравственные, но и диагностические нормы. Я был горд, но платить за это не хотел.
Какой была реакция на вашу экспертизу?
Для меня наступило горькое время, я ждал. Я слушал каждый вечер Голос Америки, Свободу, и – ничего не было. И потом, уже на зоне я понял: Сахаров не публиковал экспертизу, по-видимому, боясь за меня. Первая публикация произошла, когда я был арестован, и только тогда было произнесено: экспертиза Глузмана.
Но ГэБэ все знало, они сложили мозаику. Я, конечно, открещивался: «вы что, я такое не мог бы…» Потом, когда понял, что они все знают, потребовал лист бумаги и написал приблизительно такой текст: «да, я действительно являюсь автором экспертного документа, я действительно довольно глубоко изучил дело Григоренко и убедился в том, что он психически здоров и никогда не был болен, но категорически отказываюсь сообщать какие-либо сведения о тех людях, от которых получил информацию, и которым передал готовый документ в связи с тем, что в основах законодательства СССР и союзных республик, статья 16 или 32 (уже не помню) сказано, что врач должен соблюдать врачебную тайну». Следователь улыбнулся, какая там тайна. Вот и все, дальше была уже другая жизнь.
Что было после публикации?
Бурная реакция. Это был первый серьезный документ, в котором советская карательная психиатрия описывалась не в публицистических терминах, а в профессиональных.
Из зоны Запад казался мне монолитом добра. Потом, когда я, уже в горбачевские времена, поехал за границу, и мне стали показывать и рассказывать, кто как себя повел, когда ознакомился с моим экспертным заключением, я понял – не монолит. Люди всего лишь люди, у них всегда много обстоятельств.
На зоне я познакомился с Вовой Буковским. Буковский присматривался ко мне, потом подошел: «Знаешь, была такая инструкция Вольпина «Пособие для диссидентов. Как себя вести со следствием, с КГБ»? Да, говорю, знаю. Буковский говорит: «Я бывший сумасшедший, ты бывший врач-психиатр, давай напишем пособие для инакомыслящих по психиатрии» Я сказал: «Давай».
И как вы это делали?
У КГБ, видимо, была надежда, что я мягче других, и меня взяли санитаром в зековскую больничку. По вечерам, ночью, когда больные спали, совершенно роскошно сидел за нормальным столом, с бумагой, в белом халате и писал. Главу за главой. Буковский успел написать только вступление, после чего его отправили в крытую тюрьму во Владимир. Все остальное писал я. В конце появилась подпись – «тюрьма, лагерь ВС108935». В общем, я написал и отдал рукопись опытным зекам, они должны были все сохранить и переправить на волю. Лева Ягман, из «самолетчиков», сказал мне: «Не волнуйся, мы спрятали, все уйдет».
Через полгода меня вызывают из барака на разговор. Вижу – стоят авторитеты зоны, начинаю волноваться. «Что случилось?» «Понимаешь, мы спрятали под умывальником, на проволочке, крысы наверное утащили».
Надо возобновлять, а Вовы нет.
Я возобновляю. Меня послали перекладывать крышу на одноэтажном здании, где размещались всякие вспомогательные службы. «Вы с ума сошли, какая крыша? – говорю. – Я не умею». «Ты не волнуйся, – отвечают, – вот Иван Смирнов, он будет перекладывать, ты будешь помогать». Иван Смирнов был нам чужой человек, но с правильной зековский моралью. Когда мы залезли на крышу, и я увидел, что он все это за пару часов поправит, я попросил его: «Ваня, мне нужно работать здесь». «Как работать?» «Мне нужно писать, хотя бы неделю». «Тут нечего делать неделю!» «Ваня, – говорю, – так надо». И Ваня перекладывал что-то, и иногда шумел, а лестницу мы, поднявшись, втягивали за собой. И правильно делали. Потому что опер Хромушин, не очень умный человек, но интуитивный мент, что-то чуял.
Каждый вечер, когда я спускался, давал зеку Зиновию Антонюку готовую главу, главы переписывались на ксивы. Когда дописал последнюю главу, мы с Иваном доложили, что закончили перекладывать крышу. Дальше было интересно. Однажды Лева Ягман подошел ко мне со странным вопросом: «Скажи, какой длины кишечник у человека?» «Ну, метров пять-семь, не помню, а что?» «А, ничего, просто мы поспорили…». Потом выяснилось: готовился к освобождению Валерий Румянцев, офицер КГБ, отсидевший с нами 15 лет, я писал о нем в своих воспоминаниях. Когда Лева показал ему, какое количество он должен вставить себе в задницу (извините), Валера ужаснулся: «Да ты что, я до Москвы не доеду, у меня все лопнет». И Лева пошел ко мне выяснять детали. Но вопрос был неверно сформулирован, он же не спросил про прямую кишку. Ну и Лева ему: «Глузман врач, ты же понимаешь, он сказал, у тебя пять метров». Валерий взял все: моя рукопись была примерно пятой частью того, что он должен был доставить. Он когда-то сидел с Юлием Даниэлем, вызубрил его адрес и теперь ехал к нему. Пришел домой, вынул все, и начался скандал.
Прошло несколько лет. Я уже махровый волк-антисоветчик, меня таким сделали. Каждый год возят на профилактики, этапом, в Пермскую тюрьму. Сидишь в обычной тюрьме, где-то раз в два дня возят на собеседования в КГБ. Первое серьезное собеседование вел человек по фамилии Розанов, если его это настоящая фамилия.
Разговариваем день, другой. Вдруг, расчетливо неожиданно, Розанов выкладывает из чемоданчика рукопись. Я приглядываюсь, а это рукопись, которую крысы украли.
«Давайте выяснять, – говорит он – это ваш документ»?
«Да».
«Как он попал на запад»?
«Товарищ начальник, документ не вышел за пределы зоны, он у вас хранился три года, и вы у меня спрашиваете, как он попал на Запад»!?
Помню, на свидание приехали мама и папа, тысячи километров, общее свидание, мама говорит: «У тебя такие негодяи друзья»!
«Что случилось, объясни».
«Кто-то написал «Пособие для инакомыслящих» и поставил твою фамилию».
Я начинаю улыбаться.
У мамы леденеет лицо: «Как? Здесь?»
«Да, здесь».
Что вы думаете о советской карательной психиатрии?
Психиатрия как нож – можно резать хлеб, а можно и человека. В силу своих основ она опасна, даже в цивилизованной стране. Первые злоупотребления в психиатрии, о которых мне довелось читать, происходили на острове Абдера, где философ Демокрит неправильно себя вел. Неправильно воспитывал молодежь. Родители не могли понять, чего же он хочет. Нужно выращивать виноград и оливки, нужно торговать, а не философствовать. И они вызвали к Демокриту Гиппократа. С тех пор много чего было: инквизиция, Чаадаев, которого объявили сумасшедшим… Во время страшного деспота Сталина не было случаев использования психиатрии в политических целях, наоборот, люди прятались от репрессий, в том числе, в психбольницах. Таких не преследовали, врагом объявляли соседа. Жертвой мог стать любой, и некоторые сохранились в больницах. Кто-то мне рассказал историю театрального режиссера Ровенских, который разыгрывал навязчивое состояние. Через много лет после смерти деспота он вышел, работал, стал известным, и уже не мог избавиться от навязчивых состояний.
Историки говорят, что первые злоупотребления в психиатрии связаны с Хрущевым. Все не совсем так, вероятно, это было и до Хрущева. Когда нужно было расправится с невиновным, можно было поместить его в специальные психиатрические больницы МВД, которых было больше десяти. Там условия были гораздо страшнее, чем в лагерях и тюрьмах, помещенные туда находились в страшном окружении.
Хрущев запомнился тем, что выкрикнул журналисту: «В нашей стране против советской власти может выступать только психически больной!»
Нужно было пугать инакомыслящих, а в лагерь было уже нельзя. Кто-то чисто интуитивно понял: удобно применять психологическую репрессию. А она страшнее физической репрессии. Кроме того, сводится на нет то, что человек говорил и писал, – это продукция психбольного. Но самое страшное: ты не знаешь, сколько будешь сидеть, появился термин «вечная койка». Все чаще и чаще начали применять «психиатрическое заключение» там, где возбуждалось уголовное дело.
Диагноз «вялотекущая щизофрения» как инструмент репрессии?
Да, но это не означает, что перестала существовать шизофрения. Тут все не просто. Снежневский все довел до абсурда, но это отдельный разговор. Между нормой и патологией нет, как у государств, четких границ, все между – варианты. Даже если человек ведет себя не так, как мы привыкли, это не значит, что его нужно наказывать лишением свободы в психиатрической больнице.
Я застал в круге Сахарова Евгению Эммануиловну Печуру. До Второй мировой войны она была членом партии, попала в госпиталь, где директором был Снежневский. И рассказывала, что если на ежедневном обходе тот узнавал, что кто-то из врачей или персонала обидел больного, тут же отправлял обидчика на Восточный фронт. Не разбираясь, не вникая. А потом она была в круге Сахарова, а Снежневский был в совершенно другом месте.
Несколько лет назад мне рассказал генерал КГБ, которые в 1970-е был младшим офицером, фамилию не буду называть, что «вялотекущая шизофрения» как способ репрессии была изобретением группы Андропова. Сказал, что была специальная закрытая инструкция.
Когда мы из зоны посмели сказать «нет», это произвело огромное впечатление. Потому что дело Григоренко – это дело одного человека. Здесь же другая психологическая ситуация, массовые репрессии, западные психиатры увидели весь ужас происходящего в СССР.
Что вы можете сказать о Лунце и Снежневском?
Я встречался с многими психиатрами, и всегда задавал им вопрос: кто такой Снежневский? Это был человек, вначале по крайней мере, профессионально нравственной позиции. Это был человек, превосходно знающий психиатрию. И признававшийся западными психиатрами как коллега. Да, над ним посмеивались – все знали, что диагноз будет поставлен: «вялотекущая шизофрения». Люди, которые работали со Снежневским, рассказывали о высочайшем интеллекте, жестком характере, нетерпимости к дуракам. По видимому, Андрей Владимирович был антисемитом, по-видимому, скрытым.
Когда произошел слом, никто не может ответить. Сначала он был директором Института Сербского, потом стал главным гауляйтером советской психиатрии. Люди, которые знали его близко, написали книгу воспоминаний о нем и попросили ее пока не публиковать. Это удивительный текст, написанный с любовью, с почтением и разоблачением. Так, наверное и надо писать книжки.
Как западный мир относился к советской практике карательной психиатрии?
Кто-то не верил, кто-то делал карьеру, кто-то хотел общаться с советскими коллегами – по-разному.
Но потом появились люди, выжившие. Плющ, который за четыре года интенсивного лечения в Днепропетровской психиатрической больнице стал овощем. Его вырвала компартия Франции. Когда его воссоединили в поезде с семьей, с ним были проблемы.
Меня беспокоит другое, выжившие не оставляют воспоминаний. Они боятся воспоминаний, боятся не СБУ – себя.
Кто-нибудь из руководителей советской медицины покаялся за эту практику?
Один из министров, их было множество у нас, должен был бы сказать: это было. Ужасно, что это было. Это никогда не повторится. Это не проблема коррупции, это проблема нравственного императива.
Я президент ассоциации психиатров, я дважды выступал в академии СБУ, выступал перед девочками, мальчиками, студентами, и я их не обманывал, я рассказывал о том, что их учителя вытворяли в те времена. Для меня это было вершиной моей биографии. Я выступал в Конгрессе США, но вот это – было самым важным.