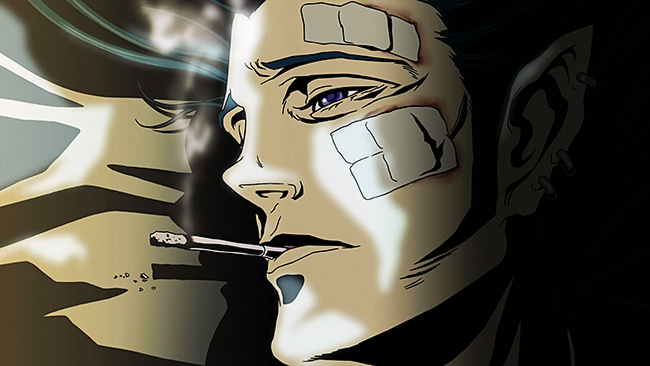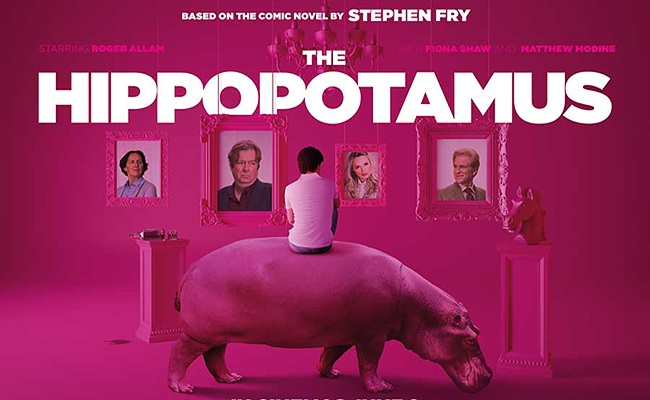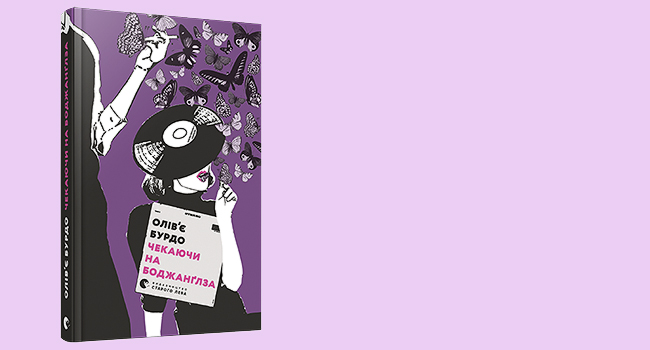Главный художник издательства «Малятко» и один из ведущих представителей украинского андеграунда конца 1960-х — начала 1980-х годов Аким Давидович Левич рассказал In Kyiv о том, что не хотел бы быть сейчас молодым художником. И о том, что по-настоящему важно для художника.
Расскажите о ваших студенческих годах: официальное и неофициальное искусство вокруг вас.
— У меня так хорошо получилось, что я дорастал до неофициального художника. Я им стал не сразу — пришел, и сразу авангард. Нет, я рос до него. Все было стандартно: я окончил Республиканскую художественную школу, потом — институт, и потом — вольные хлеба. Сложности начались в институте, тут я начал не вовремя расти. Надо было бы немножко позже. Мой рост пришелся как раз на диплом, 4-5 курсы. А Может, раньше, меня три раза исключали из института. Не из-за пьянства, не из-за прогулов, не за хвосты — за рисование.
Исключали каждый раз за разное?
— Формально, да. Но повод был один и тот же: буржуазное влияние.
Как вы восстанавливались?
— Они интересно меня исключали, обо мне в общем-то были хорошего мнения. То есть бить — били, но не до смерти. И восстанавливали. Первый раз меня исключили после первого курса. А студентом я стал после второго курса, меня сначала не приняли и взяли условно, нас было три человека условников. Все трое, кстати, вышли в люди.
Кто это был?
— Они не из Украины. Россия и Азербайджан. Но у меня были и покровители…
Кто?
— Первый, в институте — Сергей Алексеевич Григорьев, наш классик. Он очень хорошо ко мне относился. Он пытался предотвратить все истории с моими исключениями, говорил мне: «Вам будет тяжело только первые десять лет после окончания института».
И как, оказался прав?
— Меньше. Он ошибся на три года. Я первый из всего выпуска, из всех, кто получал пятерки, стал членом Союза художников. И, в общем, думаю, что отношение в институте ко мне было хорошим. Но на мне можно было и заработать «не ту» репутацию: все ж таки буржуазное влияние. Но это глупость, конечно. Какое буржуазное влияние? Откуда?
В чем оно проявлялось?
— В мазках, наверное. Вот я например, писал этюды, которые вызывали у преподавателей (не у всех) бешеный сротив. На картоне между мазками были белые пространства. Никакой идеологии там не было – чистый лист. Я думаю, что само словосочетание «идеологическое влияние» использовалось для решения межцеховых споров.
Формальный прием победителя?
— Да. Я рисую так, а ты — иначе. Я обвиню тебя в формализме. А ты меня еще в чем-нибудь.
Второй раз когда и за что исключили?
— После третьего курса. Там интересно получилось: я обнаглел и написал целую картину, у студентов это не так часто бывает. Так вот, студент написал целую тематическую картину. Советскую, конечно. Единственное что — мрачную. Эта мрачность, видимо, выдавала мой андеграундный подтекст.
Что за сюжет?
— Я стараюсь писать только то, что знаю и помню. Это был пост ПВО, во время войны были такие дежурные посты, обычно на них дежурили женщины. Там было описано чувство тревоги, но это ведь и тема такая. Я ведь помню, как мы во время войны боялись хорошей погоды — значит, прилетят, будут бомбить.
В институте был «исправительный зал, в нем мы обсуждали работы и вносили поправки. Зарецкий про мою первую работу сказал: «Впечатляет»… он не сказал: «Хорошо».
Всего на военную тему у меня было четыре картины, и все они выставлялись, только с последней все было непросто. Я не вовремя с ней встрял. На ней был солдат, стоящий спиной к зрителю на фоне сгоревших труб — это все, что осталось от домов. Белашова (была такая в Москве, председатель Союза художников) сказала: «Наши художники неправильно трактуют войну. Война — это парад победы, а не негатив и кошмары».
И я решил писать все, что полагается — на выставку, и отдельно, для себя. Это было ошибкой, «для себя» не бывает, у меня не получилось сидеть на двух стульях. Идет борьба между головой и трезвым расчетом (Надо, чтобы работа попала на выставку. нормальные отзывы…) и тем, что говорит душа художника.
Когда я это понял, сказал себе: «хватит». И начал заниматься книжной графикой, для заработка. Иначе бы мне светил фонд — эти Ленин, Крупская, ужас. А так я спас свою краску — не пачкал ее в этих…

Когда вас исключили в третий раз?
— Диплом. Меня не допустили к защите, дали справку. Я потом его рисовал экстерном, нарисовал отвратительно, но они были очень рады.
Сегодняшним молодым легче? Галина Григорьева сказала мне как-то: «Нам не давали выставляться, но мы были. Сейчас молодым легко выставиться, нет никаких запретов, но быть — сложнее»
— Им нечего говорить, мне кажется. Оказывается, эти тиски и еще то, что мы были напичканы литературой, — давали нам умение видеть правдиво и возможность содержательного высказывания.
….А тогда я стал писать для себя. Это примерно 1958-1959 годы. Было много смешных моментов. Александр Сафронович Пащенко — мое несчастье, мой рок. Как всякий новый директор, он пришел в Институт навести порядок: он считал, что Григорьев всех распустил. Пащенко занимался мной впритык, была такая фраза в приказе об отстранении меня от диплома: «Під час підготовки етюдного матеріалу до диплому студент Левич створював людей та природу на буржуазно-формалістичне кшталт». Смешно.
Вы считаете, преодолевать нечто (любое сопротивление) необходимо для художника?
— Думаю, что нужно.
Когда Микеланджело сидел в приемной Папы, ждал каррарский мрамор, это бытовое преодоление, здесь же речь о преодолении другого рода.
— Когда мне дали справку, выгнали в третий раз… вот представьте — огромный город — и я, один. Куда идти? Это сейчас для художника есть возможности — дизайнер, еще что-то такое. Тогда ничего этого не было.
Моя тетка, зубной врач, сверлила зуб какому-то своему пациенту, а когда-тебе сверлят зуб, под давлением бор-машины ты согласен на все. Так вот, тетка ему рассказала, что у нее есть племянник, вроде способный, вроде неглупый, но неудачливый. И ее пациент сказал: пусть приходит ко мне. Это был какой-то «ОргДорСтрой»…Я пришел вовремя, он похвалил меня, показал стол, надо было рисовать стенгазету. Это было решением проблемы на уровне участкового — чтобы не быть тунеядцем. На второй день жена собрала мне папку и завтрак, но оказалось что сотрудники «ОргДорСтрою» не нужны
Потому что вы еврей?
— Может быть, примерно это время как раз. Но точно не знаю, поэтому… Он выставил меня, и я пошел, по Глыбочицкой: а куда мне идти?!…. Жена работает, каждое утро бежит на работу. А я — впереди целый день, что мне делать? Хорошо, если жена скажет «почисть картошку к моему приходу», это я могу.
Этюдник у меня присох, работать я уже не мог. И я шел, какая разница, куда. Шел по маршруту 13 трамвая. В одном из пересечений улицы вижу странную картину — грязный забор, на его фоне человек тащит голубую детскую коляску. Голубой синтетический цвет, я чутко отношусь к цвету, для меня он относится к эстетической категории: красиво-не красиво. Он никогда для меня ничего другого не означал. А тут как по лбу ударило: это же абсурд! И я подумал, а что, если написать? И я быстро вернулся домой, на Жилянскую улицу, тогда я жил там, и написал. И у меня получился полный идиотизм. То, что получилось, выглядело глупо, у меня тогда была романтическая эстетика, мне было важно, чтобы было «красиво», что-то значило — кто-то куда-то идет, с чем-то борется. Словом, я написал картинку за два часа, подумал: «кошмар», забросил за диван, и забыл. Прошло месяца два-три, ко мне пришел Барский, у меня был старый хлеб, жена давала молоток — мы разбивали хлеб и к нему подавали к нему сладкий чай.
«Что ты делаешь?», — спросил Барский.
— Виля, я дошел до ручки.
— Ну покажи.
Я показал. «Ты знаешь, что ты написал?», — спрашивает.
Что? — И впервые в свой адрес услышал от него : «Экзистенциализм».
Такое страшное слово.
— Виля, — говорю, — это же идиотизм.
— «Ты в плену романтической эстетики», — Виля был среди нас самый умный.
Тогда у вас и появился мотив с трамваем?
— Трамвай — это город. Я городской художник. Чтобы обжить пустые дома, дома ведь мертвые, их обживают трубы, трамваи, какая-нибудь тетка с метлой, — все, что делает картину живой. Эта работа сыграла в моей жизни важную роль: я ее повторял, разрабатывал сюжет…
Потом Николай Петрович Глущенко пытался своего сына Шурку пытался «принять» в Союз, и организовывал молодежную городскую (это самый низший ранг) выставку. И я принес этот этюд, точнее, я взял его на всякий случай. Я принес нормальные работы, отучился ведь шесть лет, принес другие, хорошие работы. Глущенко смотрит, кивает: «хорошо, хорошо». Потом видит трамвай: «все остальные заберите. Мы эту выставим».
Николай Петрович, говорю, это же не пропустят. А он говорит: «Мы назовем это иллюстрацией. Хорошо бы к Достоевскому. Но трамваев тогда не было. Мы назовем это иллюстрацией к Брехту».
— Николай Петрович, я не читал Брехта!
Он захохотал и сказал: «Они тем более».
Глущенко был мощным художником и человеком?
— Он был европейцем. Он понимал, что не все можно, что-то стыдно.
И я выставил эту работу. Потом она (эта работа) познакомила меня с Параджановым, потом я стал более-менее известным в узком кругу. И у меня появилась тема.
Когда у вас появилась библейская тема?
— Когда решил писать для себя. Я использовал главные темы и сюжеты, и вкладывал в это себя. Но эта стезя она была мной придумана, искусственной, а я плохо на это реагирую.
Если вернуться к теме преодоления некоего давления. Зачем что-то преодолевать? Разве недостаточно художнику преодоления себя?
— Тут нет рецептов. Кому поп, кому — попадья. Кому-то нужно преодолевать трудности. Кого-то ни сломают. Тут ведь как с ответом на модный вопрос: должен ли художник быть голодным? Нет, я хочу быть сытым. Я против голода.
Вам не кажется, что благодаря свой отверженности вы были в центре внимания?
— Я не хотел бы сейчас быть молодым художником.
Почему?
— Не знаю. Не обязательно что-то вечно преодолевать. Мне понятнее братья за трудное.
Самоцензура в этом не помогает?
— Самоцензура любит тебя: нужно, чтоы у тебя была машина, деньги и так далее. Художник состоит их двух людей, один из них — человек нормальный, который хочет хорошо жить. И другой, который ищет путь в искусстве.
Искусство сейчас играет важную роль в жизни?
— Появились другие категории. Дизайн. Украшения. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо пожить, и оглянуться. Современникам этого не дано. Так мне кажется. Я могу не принимать современное искусство, ну так что? Потом все станет ясно.
Профессиональное обсуждение работ художников тогда (например, «Выставка Девяти») и сейчас отличаются?
— Тогда обсуждение проходило в казенных стенах, в нем участвовали казенные люди, это казенный разговор. Обсуждение было очень неинтересным, единственное, что мы тогда почувствовали, я говорю о «Выставке Девяти», — мы почувствовали отторжение своих коллег. Володя Будников обнял меня, и сказал: «я тебя поздравляю, конечно, но ты знаешь: плохо».
Сейчас я очень осторожен с категориями хорошо и плохо, они могут меняться местами. Главным было отторжение. Хотя горизонт уже светлел. А они боялись конкуренции.
На какой период в вашем творчестве пришлась «Выставка Девяти»?
— На Город, Библия уже прошла.
Когда наступили «черные» полотна?
— После «библейского» периода, он был светлый, свежий, почти белый. Потом я учился «убивать» эту свежесть. Добивался до черноты.

Что вас интересует сегодня? Вы ведь хотите рисовать?
— Конечно. Я хочу рисовать жизнь, меньше изображать, больше говорить. Рассказывать большое через незначительность темы.
Рисовать детские воспоминания, ощущения. Я хочу сделать своей темой живопись.
Как вы относитесь к красоте?
— Я ее ненавижу. Это придуманный человеком уход от того, что есть на самом деле. Я не люблю красоту, я не люблю хорошие картины.
Вам, большому художнику было трудно прийти в «Малятко»?
Там было очень хорошо, я уже не работаю два года, до сих пор в паспорте журнала: «художественный редактор — А.Левич» я позвонил главному редактору — нужно это ликвидировать. «Ні, ми так вважаємо» — был ответ. Моя должность до сих пор свободна.
Художник и время. Художник привязан ко времени?
— Он не выбирает, время в него влазит, и он делает что-то современное, Можно выйти за рамки своего времени и тогда начинается вечное. Вечное всегда связано со временем. С тем что было, есть и будет.
Успех у широкой публики важен для художника?
— Он желателен. Иногда он бывает заслуженным. Я не знаю, все зависит от дозы, поскольку меня провозгласили «андеграундом», сказать «да» я не могу, я не уверен. Сказать «нет» — я не могу, я не имею права. Поскольку очень много неясного в мире, лучше, когда тебя что-то ведет, и когда «строку диктует чувство».