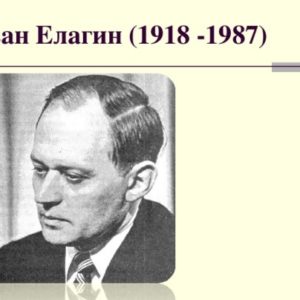Сегодня мы начинаем публиковать воспоминания художницы Елены Агамян – о родителях, Борисе Рапопорте и Анне Файнерман, сестре Любови Рапопорт, о круге друзей, о жизни и работе киевских художников во второй половине XX века.

«Товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает»
В 1930 году, когда папе было восемь лет, шел громкий судебный процесс Промпартии. Папа и его друг Сеня Абрамович спросили у отца Сени: «Как же так? Это же инженеры, зачем же они вредят?» Тогда ведь профессия инженера была очень престижной, инженер – значит прекрасное образование в Петербурге, Лейпциге, Вене… А отец ответил: «Дети, это все брехня. Это борьба за власть». Так вот, еще в детстве, формировались папины взгляды на происходящее…
В 1937 году моего деда Наума арестовали и расстреляли, бабушку Клару сослали. В квартире на бульваре Шевченко остались два ребенка – папа и его сестра Мария. Я знаю художников, у которых родителей репрессировали, – они попали в детские дома, и потом, после армии, с большим трудом поступали в институт. Папе очень повезло, что нашлись люди, которые ему помогали. Например, папа всегда вспоминал с благодарностью Карпа Демьяновича Трохименко, благодаря которому не разлучился с сестрой, остался в Киеве. Трохименко защищал папу, доказывал: «Така талановита дитина!»
В 1930-е годы был всеобщий восторг от талантливых детей – дескать, встречаем первое поколение настоящих советских людей. Папа рассказывал, что семье девочки, которая талантливо играла на рояле, дали квартиру! Так вот, когда папа учился в Художественной школе, его работы отправили на Международную выставку в Америке, и какой-то газете вышла заметка: «Учні Художньої школи, Абрамович, Шевченко і Рапопорт, представили чудові роботи». Соседка по коммуналке, убежденная коммунистка, надо подчеркнуть, взяла эту газету и пошла на Короленко, 15, где уверяла: «Товарищ Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. Смотрите, ребенок прославляет нашу родину!» И, представьте себе, бабушку мою вернули из ссылки.
Другие соседи тоже помогали – вместо того чтобы быстренько побежать, настучать, отнять комнату, находили папе подработки, в библиотеке, например. Папа вообще любые вещи мог делать. В библиотеке писал таблички – где Пушкин, где Шевченко, рисовал наглядную агитацию, транспаранты.
«Каждому студенту по костюму!»
В военные годы ректором (а тогда должность называлось «директор») Киевского художественного института был папин учитель, профессор Илья Нисонович Штильман. Очень хороший художник, прекрасный живописец. У него был предпринимательский талант, наверное, потому что когда студенты заканчивали институт, он договаривался, чтобы у них уже была какая-то работа, какой-то заказ. В эвакуацию институт отправили в Самарканд, туда же прибыли художественные институты из Москвы, Ленинграда, город приютил лучших мастеров: Фаворского, Фалька, Грабаря, Сергея Герасимова, Сиротенко, Елеву и многих других. Они ходили колоритными улочками и рисовали с натуры. Папа (после рытья окопов под Киевом, стройбата в Челябинске) получил в институт вызов и очень обрадовался возможности учиться. Но жизнь в Самарканде, в азиатском средневековье с бедными трущобами, была тяжелая. Папа искал любую возможность прокормиться – пилил дрова, работал на заводе, был кочегаром, грузчиком.

Молодые художники рисовали портреты советских руководителей на заказ для местных колхозов, но угодить заказчикам было непросто – в Узбекистане хорошо помнили Гражданскую войну и «усмирение» непокорных, поэтому отвергали изображения тех деятелей, которые там особенно лютовали. Штильман старался как-то студентам помочь, опекал. Папа вспоминал, что Илья Нисонович поехал в Москву по делам и привез каждому по костюму! Сейчас это, наверное, эквивалентно подарку машины. Конечно, полная нищета была в те годы, папа вернулся после эвакуации в Киев, не имея денег даже на краски. В их киевской квартире кто-то жил.
Все папины друзья погибли. Родители Сени Абрамовича в Бабьем Яру, вероятно, а сам Сеня погиб при штурме Берлина. И друг Боря Шевченко погиб, а что с его родителями случилось – неизвестно, они же не евреи. Целые пласты исчезли. Много позже папа собирал библиотеку по Холокосту, хотя слова такого мы еще не знали. У нас не выпускали подобную литературу, а в «странах народной демократии», в Польше, скажем, уже была. В киевском магазине «Дружба» можно было купить эти книги. Там страшные фотографии – верующих евреев, с такими бородами, пацаны гитлеровские заставляют делать «Хайль Гитлер!». Унижение, уничтожение…
Папа с мамой ровесники, но так получилось, что он поступил в институт раньше, потому что окончил школу в 1940-м, а мама 22 июня 1941 года. После возвращения в освобожденный Киев папа продолжил учебу, а мама заново поступила. Несмотря на горе и потери, такая радость была после победы! Голодно, но все молодые, талантливые. Студенты делали открыточки для продажи, чтоб немножко подзаработать. Галя Зоря, замечательная художница (сейчас с трудом найдешь ее работы), склонявшаяся к декоративной живописи, делала эскизы открыток, а ребята вырезали цветочки. Открытки эти раскупались со страшной скоростью. Муж Гали, Петр Слета, такой был правильный и спокойный, а она веселая, заводная.
«Стала Крупская как живая, даже лучше»
Это поколение прошло войну, репрессии, многое знало. И радовалось возможности просто работать, приходить в мастерскую и работать. Человеку нужно есть, нужно растить детей, возить их на море. Сегодня что-то в истории мажут розовым, что-то черным, что-то красным, а люди всегда и всюду пытались как-то выжить. У Маршака есть такое стихотворение:
Будь вежлив с каждым муравьем,
Не пререкайся с воробьем,
А в обществе курином
Не заикайся о своем
Пристрастии к перинам!
Когда навстречу бык идет,
Давай свернем с дороги,
Поскольку он – рогатый скот,
А мы с тобой – безрогий.
Папа очень ценил возможность реализовываться творчески. Он ставил перед собой серьезные задачи, ему интересно было идти вперед. Когда я училась в Художественной школе, мне говорили: «О, дочка Рапопорта!» Многие люди вспоминали, какими качественными были его работы, натюрморты, посмотреть на которые все сходились. Кстати, именно Карп Демьянович Трохименко посоветовал ему заняться пейзажем. И папа, в общем-то, гордился, что ему не приходилось писать картины «два вождя после дождя» и тому подобные.
А с портретами вождей была такая история: когда мама уже поджидала меня, я должна вот-вот появиться, ей дали задание – нарисовать Крупскую. Мама такой виртуоз! Но как можно написать эту Крупскую?! Мучилась, мучилась, сел Трохименко и все перерисовал. Стала Крупская как живая, даже лучше. И я думаю сейчас – ведь в каком-то колхозе висела эта работа!
Понимаете, вот раньше приходишь на выставку, тебе интересно то посмотреть, это посмотреть. Я даже помню 1960-е годы, я еще школьница – смотришь, Ленин под елкой с Крупской… Интересно же рассматривать, особенно когда сам рисуешь и понимаешь, как сделана работа, – просто из последних сил художник старается, Ленина вырисовывает. Но всегда молодежь на выставках искала папины работы.

В Художественной школе у нас класс был разделен на две группы. Я в соседнюю группу как-то зашла, меня за мольбертами не было видно, и слышу голос одноклассника Володи Семесюка, который был у нас «главным», потому что лучше всех рисовал. Делится он впечатлениями про выставку: «Дивитися немає чого, тільки Рапопорт». Я думаю, что всех подкупала папина ответственность, честное отношение к работе.
«Боже, какой дурной вкус!»
Моего отца, конечно, утомляла необходимость зарабатывать. Вот как было в России, в Москве, Ленинграде, и как надеялись, по крайней мере, мои родители, что у нас тоже будет (но этого не было)? Художник получал деньги – приходили в мастерскую и выбирали готовые работы на эти деньги. Человек не должен себя заставлять, когда у него свои творческие планы, рисовать, например, цветы на фоне окна, какую-то салонную пошлость, – ведь момент пошлости в подобных работах должен быть.
Как-то мы с приятелем зимой шатались по Киеву и зашли к Виктору Рыжих, известному мастеру. Парень как раз хотел посоветоваться с Виктором, потому что никак не мог сдать картину с изображением свадьбы – там же столько ручек, ножек! Рыжих ему что-то свое показывает, а он говорит с восторгом: «Боже, какой дурной вкус! Так ведь можно сломаться! Как же ты потом переходишь к нормальным работам?» Но понимаете, у художника в голове нет четкого разделения: вот это я делаю на заказ, вот это на выставку, а это для себя. Какой-то Змей Горыныч получится.
«Тут все в ужасе!»
Я нашла в домашнем архиве папин ответ маме на письмо, в котором она сообщала, что Люду Семыкину исключили из Союза художников (а Людмила Семыкина и ее муж Михаил Бароянц были друзьями родителей). Если исключили, значит эти клёвые заказы, пейзажи там, натюрморты с цветами, она делать уже не могла. Людмила, которая работала в копийном цеху, позже мне рассказывала: «У нас там так классно было, такая компания хорошая! Любимая шутка – нас похоронят в братской могиле и напишут: “Они рисовали Ленина!”»
И вот мама с возмущением писала, что Люду исключили (а у мамы вообще была активная жизненная позиция). Папа в то время находился то ли в Прибалтике, то ли в России в Доме творчества художников и отвечал: «Тут все в ужасе!» И москвичи, и казахи, и грузины, все в ужасе, потому что у них такого и быть не могло. Не то чтоб человек хулиганил страшно или рисовать разучился, нет, выгнали за убеждения, расходящиеся со взглядами партийной верхушки.
«Наши профессора не стояли в очереди на худсовет»
Нужно сказать, что такие художники, как Штильман или Трохименко не делали «халтуру» на заказ. И потому жили очень скромно. Не делал ее и преподаватель КХИ Георгий Степанович Мелихов, про которого папа говорил: «Он такой профессор, как у нас были. Потому что наши профессора не стояли в очереди на худсовет, чтобы им дали “халтуру”». Помню, мы приходим в 1960-е на выставку – висит картина Мелихова, такая мощная, мастерская, он несколько лет ее писал.
Папа, будучи художником высокого уровня, мог выполнить любую работу, но да, он гордился, что ни Сталина, ни Ленина не рисовал. Однако и к тем, кто рисовал и лепил, неуважения не было. Вот, знаете, в еврейской среде не поощряется, например, смена фамилии, когда был Рабинович, а стал Рябченко, но папа, человек мудрый, говорил: «А если бы это было при Гитлере, при нацистах? Человек должен как-то выжить».
Заказы разные были, не только на вождей. Союз художников заключал с художником договор о том, что тот напишет для выставки пейзажи, например, нашей Родины или «по шевченковским местам». Папа с Михаилом Бароянцем, мужем Людмилы Семыкиной, поехали по Волге и создали серию «родных пейзажей». Им перед поездкой дали аванс и к тому же бумажку с предписанием оказывать художникам всемерную помощь: устроиться в гостиницу, купить продукты, сигареты – тогда ведь все было сложно.
«А что это там за белье развевается? Убрать!»
Для того, чтобы работа попала на выставку, нужно было представить ее выставочному худсовету. Принес, отдал на рассмотрение и стоишь ждешь за дверью. Сами художники при обсуждении не присутствовали («судьям», видимо, неудобно было при них голосовать против), специальный человек носил туда-сюда работы.

И запросто могли работу не принять! А бывало такое – и у мамы не один раз – что работу приняли, она уже в экспозиции висит, и тут проходит комиссия: «Что это там за белье развевается? Убрать!» Утвердили-то работу художники, а в этой комиссии уже функционеры, типа секретарь ЦК по пропаганде, представитель Министерства культуры и тому подобное. На каникулах мы поехали в Москву, зашли в Третьяковку. Я смотрю – висит прекрасная работа Дейнеки, и на ней белье развевается во все стороны. Думаю: «Ага, значит, этот начальник никогда не ходил в Третьяковку! Никогда не видел эту работу. Он думает, что все должно быть аккуратненько». Мама была человеком очень эмоциональным, с ярким колористическим даром, и у нее часто возникали проблемы.
«Ноги – в траву, руки – в карманы!»
Худсовет выставки – это одно дело, а худсовет художественного комбината – другое. Собирался он в определенные дни, по пятницам, например, или по вторникам. Были люди, которые просто физически не могли сдать требуемые работы в нужном качестве. Миша Вайнштейн в этот день брал бутерброды, этюдник и целый день поправлял работы коллег. Он такой мастер был, что буквально несколькими мазками мог довести картину до ума.
Часто случалось, что автор уже просто не видит, глаз замылился. Например, художнику могли сказать – хороший пейзаж, только вот березка «вырывается», поправь. Он примется исправлять, а в следующий раз на совете другой человек говорит – знаешь, все классно, только я бы сделал гамму более голубой. И так, исправляя по требованиям, можно запороть работу на раз. У папы не случалось такого, чтоб работу не приняли, он всегда делал очень качественные вещи. А выбирать – писать или не писать – ему не приходилось. Семья, дети, мы должны были ездить на море, заниматься с хорошими педагогами, мама должна была лечиться, она очень болела. И вот, пишет папа чудесный пейзаж, но чуть криво делает горизонт. На худсовете говорят: «Боря, как всегда все хорошо. Но горизонт исправь немножко». – «Не вопрос!» Выходит в коридор, берет палитру, раз-два, готово.
Кстати, нередко художники старались себе труд облегчить. Понятно, что сложнее всего рисовать руки и ноги. И ходила такая поговорка: «Ноги – в траву, руки – в карманы!» Или вот папа рассказывал в кругу взрослых историю (а я услышала), что как-то на выставке увидел картину, где был изображен обеденный перерыв на производстве, агитатор что-то вещает, газета на столе лежит… И спрашивает у автора: «Это ж рабочие, почему руки такие белые?» Художник отвечает: «Понимаешь, у меня был договор на выставку, но я не успевал сделать работу. А для комбината был готов Ленин с рабочими…» То есть вот этот, с белыми руками, был Лениным. Автор ему немножко лицо упростил, да и выставил. Был и такой тип художников, и ничего в этом страшного не усматривалось. Профессионалы: вы хочете песен? их есть у меня!
Беседовала Марина Полякова
Изображения: Facebook-группа Art Rapoport Fainerman, книга «Борис Рапопорт. Живопис, спогади, архів»