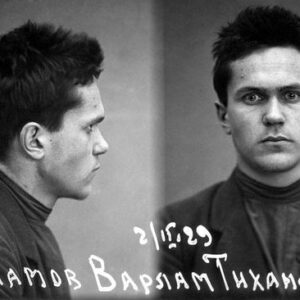Это время, когда сгустилось время. Такая плотность событий, такое горение человеческих чувств в такой высокой концентрации и в таком количестве обычно недоступны наблюдениям, каждый прячет свое в суете ежедневной жизни. Из-за рутины не понимаешь масштаба того, что происходит во всякое время всякой человеческой жизни. Но это знал Гомер, это знали античные трагики, это знали те, кто записывал реальные и выдуманные истории в Танах, одну из записных книжек человечества. Все времена – ветхозаветные, и только отсутствие должной дистанции, самонадеянность и суета мешают многим, если не почти всем, это замечать. «Нам дано трудиться, но нам не дано завершать труды наши», – написал один умный человек в другое сгущенное время, около 1933-го. И да, мы сплошь и рядом не знаем, что именно мы строим. Оценят или не оценят потомки – время задаст дистанцию. И, может быть, достанет такта и не помешает суета.
Почему я об этом, ветхозаветном, задумался? Я не религиозен, для меня Танах / Ветхий Завет и в самом деле не священная книга, а записная книжка. В ней, как и в других величайших произведениях искусства, человеческие страсти и трагедии, там любовь, там ненависть, там страдания и скорбь, там отчаяние, там надежда, там сила духа, там ум, там предательства и обман, там гнев, ярость, умиление, зависть и ревность, благоговение и нищета духа, пороки и добродетели (у Вайсберга есть серия штудий по одноименным фрескам Джотто), там человек под давлением обстоятельств, и мало где можно найти такую концентрацию человеческого. «И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее» – можно ли выразить силу любви словами яснее и короче? Можно ли более сжато прожить семь долгих лет? Я заглядываю в эту записную книжку, чтобы напомнить себе, что технологии меняют многое, но мало меняют самих людей, что человек и тогда был человеком. Почти таким же, как мы, как я, как Вайсберг, человек совсем не религиозный, но постоянно заглядывающий в ту же записную книжку. Там про нас, про людей, про испытание жизнью, про испытания друг другом. Высочайшего градуса раствор, и я узнаю эту плотность письма в живописи своего друга. И служил Вайсберг живописи пятьдесят лет; и они показались ему за один день, потому что он любил ее. Тут зависть: нет, мне так плотно не написать, не выслужил. Тут радость: он написал и зовет меня смотреть. Тут удивление: ну, что я ему могу сказать, я в этом ничего не понимаю, ну, может, вижу немножко. И все это, конечно, любовь.
В центре искусства Вайсберга всегда был человек, потому что без человека все ненаблюдаемо. Человек – ценность. Не случайно один из живописных циклов его назван WAP — weak anthropic principle, cлабый антропный принцип, суть которого, если не уходить в науку, а ограничиться метафорой, заключается в том, что Вселенная и человек взаимоприспособлены друг к другу так, что что наблюдение феноменов Вселенной человеком возможно и неизбежно. Матвей любит повторять, что небеса безмолвствуют, свидетельствовать дано лишь человеку. Но человек, наблюдает ли он, свидетельствует или занят чем-то еще, центральная фигура не только художественной концепции Вайсберга, но и его моральной позиции. И эта моральная позиция делает художника протестантом всякий раз, когда человек – его достоинство быть человеком, жить человеком – ущемлено. И художник идет на Майдан. Вайсберг на Майдане с его начала. Почти ежедневно, почти еженощно. У него зрение и память, у него фотоаппарат, у него телефон. На Майдане – другие протестанты. Разные. Они строят стену.
Какие стены строятся, когда плотность событий сгущена невиданно, когда изменения ежесекундны? Чем окажется стена – стеной крепости, стеной плача? Ее строят, как стену крепости. Такие стены защищают тех, кто за ними, но они и разделяют. Они защищают, но и сами нуждаются в защите. Для художника Вайсберга стены Майдана разделяют воздух. Воздух свободы внутри от воздуха привычной приспособленности к несвободе снаружи. С 1-го декабря художник ходит дышать воздухом свободы каждый день, иногда несколько раз в день, в любое время суток. В мастерскую он не ходит, приостановлена перепись на холст испанских впечатлений, остались в прошлом, отложены Ла Манча и Сервантес, гражданская война, Лорка, Альгамбра, Кордова, конец Реконкисты, изгнание евреев, в настоящем – Гойя, черный Гойя, pinturas negras. Лица озабоченные и восторженные, просветленные лица свободных людей против масок и униформы. Мир и насилие. Свет и тьма. Красное и черное, цвета времени. 9-го декабря Вайсберг не собирается еще писать Майдан. Это потому, наверное, что воздуха свободы ему довольно, и сходство колорита некоторых его майданных фотографий тревожит, но силой в мастерскую не тащит. 11-го декабря он ночью идет защищать здание КМДА. Человек не первой молодости, с целым списком по-настоящему серьезных болезней, оставляет маленького сына и тихо уходит, чтобы жена не знала. А она знает. Не может отпустить, не может помешать. Это то самое, ветхозаветное. И там — стычка людей с нелюдями — тоже. И тревога, тревога кругом. И жертвы. Это не стычка, это война. Пришлось жить во времена ветхозаветной плотности. Не в первый раз уже, но как сейчас — в первый.
Дальше — бесконечное стояние, дни и ночи, тасовка сил и интересов внутри, тасовка сил и интересов снаружи, за стеной. И так долго. За это время и я успеваю туда попасть, наблюсти, удивиться. Один раз мы идем туда поздним вечером вместе, смотрим, обсуждаем. Матвей не зовет меня в мастерскую, там ничего нового. Что происходит? Почему какие-то странные люди ведут переговоры с другими странными людьми, уже виновными не только в разорении жителей страны, но и в гибели не повинных ни в чем людей? Почему у этих прекрасных, годных к жизни людей нет понимания, нет простых и правильных идей? Почему злодеи не решаются быть злодеями до конца? – это, впрочем ясно, у них нет достаточных сил быть такими. Но какие-то есть. Достаточно ли стойкости противостоять? Не уверен, их стойкость замешана на надежде, а надежда — несчастье, беда, не так ли, Пандора, что означает «всем одаренная»? Негодность надежды — это не ветхозаветное, это античные греки, Ветхозаветным положено надеяться, уповать на бога, на чудо. И они стоят на Майдане неделями, она надеются и уповают, и Вайсберг видит это. И другие беды, давно уже выпущенные прекрасной Пандорой, не замкнуть их в ларце, – их тоже видит. Эти беды видны в позах, фигурах, движениях рук, они выделяются светом и грохотом светошумовой гранаты, они подчеркнуты металлическим вкусом слезогонки во рту, дым горящих покрышек служит им фоном.
Это стояние продолжается бесконечно, но оно не может продолжаться бесконечно, должно быть какое-то разрешение неустойчивого неравновесия во что-то осмысленное. Можно продолжать ходить, но это ничего не меняет, это не меняет ничего, и невозможно не пойти, но там только воздух свободы. Сердце скорбящее, гневное, уповающее. Не ум. Идей свободы нет и, следовательно, нет и шагов к ней. Это отчаяние. И нелюди, он их видел, он был там. Отчаявшийся и переполненный увиденным художник идет в мастерскую. Сорок пять на шестьдесят пять, ветхозаветный размер. И это будет стена. 29 января Вайсберг вывешивает в фейсбуке первые три работы, они могли быть продолжением гольбейновской стены по колориту, они совсем-совсем ветхозаветные по силе страстей, их колористика — колористика старых мастеров. 3-го февраля — еще две, колорит меняется, старые мастера не знали света от гранаты, не знали мути в воздухе от слезогонки. Но Матвей это видел, он знает это на цвет и вкус. И за строящейся стеной слышен голос: «Я это видел». Еще три — 5-го февраля. Это я вижу в натуре, у Вайсберга в мастерской. Эти камни в стену — не кирпичики, это, вопреки размеру, огромные тесаные монолиты, из каких складывались стены храмов-крепостей в стародавние времена. И еще четыре холста – загрунтованы уже умброй, уже с подложенным рельефом. Умброй — потому что «знаешь, я люблю добывать свет из тьмы». И добывает, и стена растет: 6-го и 7-го еще по холсту, по камню, по свету из тьмы, 10-го — еще две работы, Вайсберг долго выхаживает свои работы и быстро их пишет. 12-го одна, 14-го — две, и появляется, кажется, свет иной, не от гранаты, а в конце тоннеля, неужели он увидел свет, когда я не вижу впереди ничего, кроме грядущего хама? И еще две 18-го, нет это свет, но не в конце. Он, может быть, путеводный.
Я намеренно не описываю как выглядит свидетельство Вайсберга. Это нужно видеть, слова бессмысленны. Я намеренно сел писать эту записку, когда ничего еще не решено. Стена Майдана не разрушена. Пока не разрушена. Я не знаю, добудет ли в этот раз Матвей Вайсберг свет из тьмы. Я не знаю, что мне придется делать через неделю. «Нам дано трудиться, но нам не дано завершать труды наши», это написал Лион Фейхтвангер, когда гитлеровский режим еще только учился планомерно уничтожать все непокорное. Впереди была Вторая мировая — стена, в которой похоронены десятки миллионов людей. Впереди был 56-й в Венгрии и 68-й в Чехословакии. Впереди было восстановление советского режима, неправосудный суд и убийства собственных граждан в России. Но Украина оставалась свободной, и Вайсберг писал киевские небеса, иерусалимское море, Днепр под Каневом, дорогу в Одессу, зверушек и птичек. Ветхозаветное неизменно всплывало в штудиях, в стене по Гольбейну.
Теперь он пишет ветхозаветное с натуры. Я не знаю, какой картиной окончится эта стена, будет ли это гнев или любовь. Я даже не знаю, будет ли эта стена достроена. Нам не дано завершать. Мы еще живы. Еще ничего не решено.
***
Ничего не было решено днем 18 февраля 2014-го, когда я, сидя в Одессе, закончил первую часть этого текста и отослал ее Матвею. Мне не хотелось написать о нем и его работе что-то такое, с чем он был бы принципиально не согласен. Через полчаса Митя позвонил. Нет, у него не было принципиальных возражений. У него были дневные впечатления от событий на Институтской. От того, как зверье убивало людей. Немногими днями позже наш общий друг Леша Белюсенко обнаружит, что сфотографировал на Институтской человека с винтовкой. И, рассматривая серию кадров, увидел, что человек с винтовкой целился в него и, возможно, выстрелил. Но это потом. Сейчас Митя, едва уцелевший на Институтской, шел на Майдан, а я продолжал сидеть за столом в Одессе и не мог оторваться от видео с Майдана — там были мои друзья, и я не мог не быть с ними. Готовился снос Майдана, гнусный, лживый государственный голос из репродуктора призывал женщин уйти с места проведения антитеррористической операции, нелюди выстроились против людей, и все было переполнено тревогой, страхом, надеждой, гневом, отчаянием, решимостью, и опять надеждой, и все это магическим образом становилось необходимостью принять сторону. И все до одного мои были на стороне людей, и все, кто был на стороне нелюди или самой нелюдью были не мои, потому что есть стена между абсолютным злом и отсутствием зла, такие стены иногда зовут баррикадами.
И был штурм, и люди устояли, ночь первая. Все мои остались целы, я знал, что они вернулись домой. И был день за ночью, и ночь за днем, и опять ночь, и снова день, и мои возвращались домой. Но кто-то не возвращался. И был расстрел из снайперки, бессмысленное и бесполезное сеяние страха, страха смерти, смерти. И эти, которые «они просто делали свою работу, они исполняли приказ» — вот это Вайсберг видел, и тела их жертв лежали там, где он останавливался купить себе чаю, он больше не сможет туда ступить. И была еще одна ночь, и было утро 21-го, и повелитель нелюди сбежал, и побежали его приближенные. Зло не устояло. Или устояло? Это предстояло выяснить.
Потрясенный, возмущенный, переполненный ветхозаветными страстями Вайсберг выясняет это в мастерской. Он пишет Институтскую, Грушевского, он пишет штурм Майдана. Меняется поле зрения, еще раз меняется колористика, больше красного, еще больше, пролилась кровь, меняется характер фигур, они даны намеками, рельефом, три холста, еще три камня 25-го февраля, камень 26-го, нет, это бесполезно, ни к чему перечисление дат, ни к чему замечать, как человеческие и нечеловеческие фигуры занимают все меньше холста, и прочие детали описания не добавляют ничего, и вот 8-го марта его стена построена, не 32, как он намеревался, а только 28 полотен 45 на 60, она построена, вот она, положен последний камень, вычерпан досуха замешанный на крови художника раствор, часть строителя в этой стене навсегда.
На последнем холсте — безлюдный Майдан, синее зимнее небо на мостиком через Институтскую, и этот холст мгновенно и навсегда связывается для меня с щербаковской строкой: «День не замедлил прийти — ясный, холодный, враждебный», а после, в том же марте я проверяю эту догадку в разговоре с Матвеем, и, помедлив секунду, он соглашается.
Наступает ясный, холодный, враждебный день, мы в нем живем. Но стена построена. Она построена, и это памятник восставшему человеческому достоинству, людям и их страстям. Вайсберг видел это. Он построил свою стену, и мы не можем теперь сказать, что этого не было. Потому что мы смотрим на его холсты и повторяем: «Мы видели это».