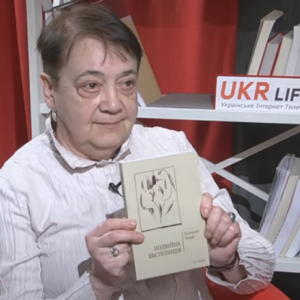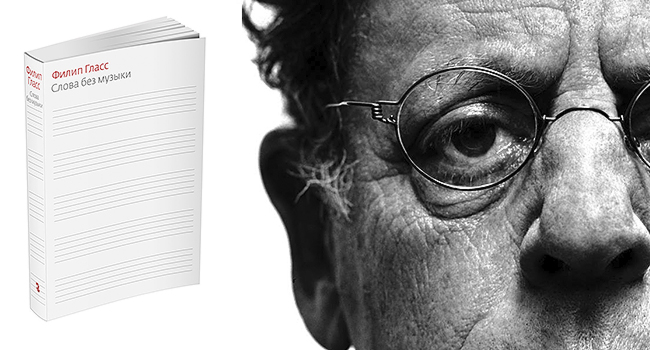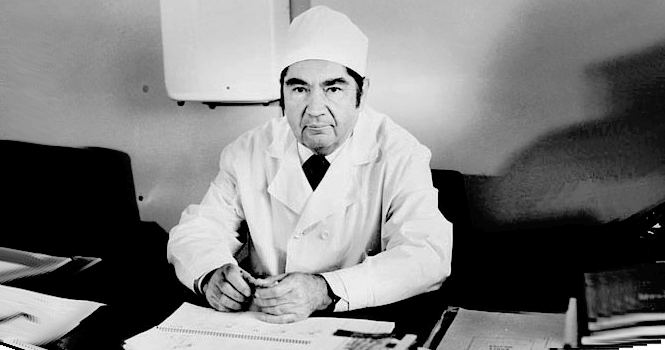Киевлянин Марк Белорусец переводит немецких и австрийских авторов с 1970-го, почти половину века: «есть еще песни, чтобы петь по ту сторону людей».
Как вы стали переводчиком?
Знаете, когда любишь поэзию, читаешь стихи на другом языке, хочется их пересказать, но пересказывать стихи ведь не выходит. Возникает желание что-то с ними сделать, чтобы передать то, что прочел по-немецки. У меня началось с Тракля, меня поразила его цветовая гамма. Я рассказывал художникам о Тракле, им это было интересно, и я стал переводить для них. Потом я как-то одну такую запись показал, а украинский поэт, покойный Валерий Илля, то, что я сделал по-русски, перевел на украинский: «Оце, каже, – вiрш». И тут рядом поэт и переводчик Моисей Фишбейн: «У Марка – підрядник, вважаєте, а у вас вірш!» И Валерий ему: «Тому, що я вважаю, що у мене це вірш, а він вважає, що у нього – підрядник».
Понятно, в чем смысл? Евреем считается тот, кто считает себя евреем.
Когда вы поняли, что у вас уже не подстрочник, но вірш?
Мне всегда хотелось быть причастным к языку, к литературе. Эпизод с Иллей и был какой-то межой, вехой.
Откуда этот этот стройный ряд: Тракль, Музиль, Целан?
«Нравится» – последний императив души. Почему Тракль? Мне была близка его цветовая гамма, его торжествующее отчаяние. Мне казалось, что его образы значимы здесь и сейчас. И у нас Тракля мало знали. Мне вообще хотелось открывать поэтов.
Почему Тракль, а не Рильке?
Я на Рильке смотрел, как мы все смотрели, – задрав голову. Небесное явление. Тогда мне было трудно даже представить, что я займусь Рильке – дистанция велика. Да и очень трудно. Ритм сложный, рифма. И не возникало такого желания. Как, скажем, у меня не возникает желания познакомиться с певицей, которая где-то там, на сцене, поет неземным голосом.
Что было раньше: занятия переводами или диссидентское движение?
Диссидентское движение – это ведь не политическая партия, взял и вступил. Что значит участвовать в диссидентском движении или иметь к нему отношение? Я окончил технический вуз, и меня всегда интересовала поэзия. Если тебя интересует поэзия – ты ее ищешь. И общаешься с такими же. Обязательно доходит дело до ненапечатанных стихов. До Айхенвальда, скажем, или списков Слуцкого. У меня была подруга в Пензе Валя Борисова, писала хорошие стихи. Она поступала в Литинститут, ошибок сделала больше чем слов в сочинении, очень хотела в семинар к Светлову, но он не набирал. Пошла к Цыбину. Ее не взяли из-за сочинения, но Цыбин ей дал огромную подборку стихов Марины Цветаевой. Машинописную. И она ее привезла к нам, в Пензу. Это все были неизвестные тогда стихи. Вот уже и самиздат! «Вереницею певчих свай, подпирающих Эмпиреи…».
А в Киеве меня привели к ботанику Юлии Александровне Первуновой. Она была связана с украинскими и московскими диссидентами. Она резкая, жесткая личность. Когда в конце 60-х она была в Питере и за столом заговорили о хохлах, она встала, вышла и хлопнула дверью.
Вы в начале 60-х жили в Пензе?
Я там учился и жил пять лет. Я, знаете ли, еврей. Поступить в Киеве было мудрено.
Вот так это начиналось от Первуновой, современный самиздат. У нее я услышал впервые Галича, прочитал Солженицына.
Как вы попали в круг украинских переводчиков?
Я попал в круг Лукаша. Потом уже познакомился с Кочуром. (Мыкола Лукаш переводчик, литературовед, лексигограф, Григорий Кочур – правозащитник, диссидент. – InKyiv). К Миколе Олексійовичу меня привел Моисей Фишбейн, мы с ним затеяли переводить на украинский Целана. У Моисея выходило замечательно. Мы сделали первое стихотворение, и отправились к Лукашу. Чтобы он оценил.
Моисей познакомил меня с Лукашем и уехал, точней его уехали. Сначала в Черновцы, а потом в Израиль. Его доставали, тягали в гебуху, а это мерзко, маловыносимо, особенно для такого легко ранимого человека как Моисей. В семидесятые годы еврей, пишущий по-украински, – изгой. Вы же знаете, как говаривали в Киеве: украинский писатель, идущий по русскоязычному Крещатику, и говорящий со своим сыном по-украински, воспринимается как инопланетянин. Сейчас это не так, но так было.
Моисей уехал, я остался, и стал ходить к Миколе Олексійовичу, попросил разрешения показывать ему свои переводы, и он стал отчасти моим мэтром. Спитав мене: якою мовою будемо спілкуватися? Я вспомнил – мне сказал Валерий Илля, что Лукаш лучше всех на Украине знает украинский язык. Ответил: Українською.
И мы с ним українською обсуждали мои русские переводы немецких стихов. Я ничего не потерял. Только нашел. Он был потрясающий. Абсолютно свободный. В переводе как-то употребил слово «криша», на что поэт Леня Череватенко осмелился ему указать: «Микола Олексійович, це ж з російської» А тот ему: «Вибач, а чому російське слово “криша” гірше німецького слова “дах”»? Лукаш был с языком на «ты».
Он составлял словарь, я видел его, украинский толковый словарь Лукаша, ящички на каждую букву. Непонятно, куда делось все. Исчезло. Может быть, в музее литературы. Страшно представить: я впервые попав в ГДР, купил книгу рассказов Йозефа Рота, себе и Лукашу, подписал, подарил. И эта книжка теперь тоже где-то там, на полке стоит, вместе со всей библиотекой Лукаша.
Теперь про Кочура.
Я с ним не то что бы очень хорошо знаком. Он мне как-то сказал: «перекладай Тракля українською, це на часі».
– Григорию Порфіровичу, як це, я – і українською?
– А я тобі допоможу.
И он бы, конечно, помог.
Моя любимая преподавательница на курсах немецкого дружила с Женей Сверстюком. Они вдвоем начинали переводить на украинский Гессе, «Последнее лето Клингзора». Женю посадили, он получил свои 12 лет (в Украине вообще мало не давали). И вот, Женя был в лагере, она сама заканчивала работу. Показала перевод – мне все понравилось. Потом она отправилась к Кочуру, рассказала, как получилось с Гессе, и попросила прочитать, поправить, если что не так. Григорий Порфирович сказал: «Цього виправити не можна. Треба переписувати, то не є українська мова». А я, языка толком не зная, решил: отличный украинский перевод.
Вас представляют украинским переводчиком, который переводит на русский.
Конечно, я украинский переводчик! Для меня украинский – второй родной.
Борис Дубин говорил о Целане, не дословно: «Он смог писать на немецком, хотя в Катастрофе погибли все его близкие». Одна из тем обсуждения русского языка в Украине «русский – это язык войны, язык агрессии». Но есть «украинский русский»…
Вы так думаете?
Скорее прошу прокомментировать.
Идея украинского русского мне не по душе. Не могу согласиться с тем, что мой русский язык – это украинский русский. Это плохо, – и для русского языка, и для украинского. Есть русский язык, язык литературы, коммуникации и так далее. Война идет не с русским языком. Целан в своей Бременской речи говорил о немецком: «Ему выпало пройти сквозь собственную безответность, сквозь страшное онемение, сквозь тысячекратную кромешность смертоносных речей. Он прошел насквозь и не нашлось у него ни слова для того, что вершилось… Я пытался на этом языке в те и в последующие годы писать стихи». На этом – не каком-то другом немецком. На этом. Нельзя сказать: наполовину на немецком, на четверть…
Какие темы немецких авторов нам еще предстоит прожить и отрефлексировать?
Мы уже проживаем, что положено нам прожить. А если учесть украинское диссидентское движение, и русское, то и – проживали. Важно это не забыть. Потому что действительно есть язык убийц. Это не русский и не украинский и не немецкий – это язык убийц. Вот от него надо держаться подальше. Наш русский – не язык Путина. Не любой другой официальный язык, не язык власти, старательно умертвленный.
Чьи переводы Целана вам близки, чей перевод «Фуги смерти» лучший?
У Алеши Прокопьева хорошие переводы. В сборник я включил «Фугу» в переводе Седаковой. Мне не нравился перевод «Фуги» Гинзбурга, все не нравились. «Фуга» настолько сильно звучит для меня по-немецки, меня потрясал оригинал. Перевод Седаковой ритмически очень точный. У нее: «Смерть – это учитель из Германии». По-моему, это необычный, точный взгляд. А вот как это звучит на украинском: «Смерть – це з Німеччини майстер».
Не планируете ли когда-нибудь сделать общую книгу русско-украинских переводов Целана с Сергеем Жаданом?
Я читал его книгу переводов Целана. Он перевел поздние стихи, ко многим из них я не знаю, как подступиться. У Жадана есть удачи. И Жадан хорошо пишет о Целане. Очень трудно сделать такую книжку. Нет, не планировал. Да и он вроде не планировал. С переводчиком Петром Рыхло я бы решился.
У вас есть ученики?
Не знаю. Нет.