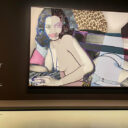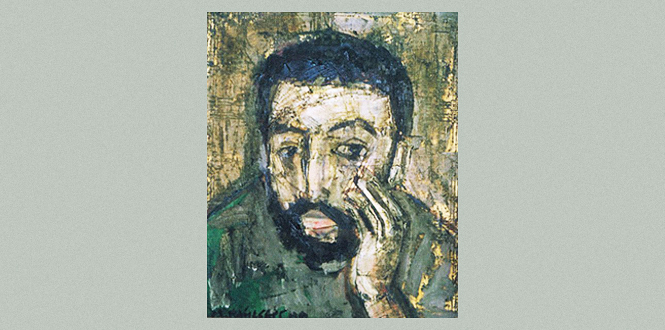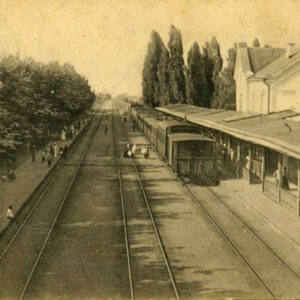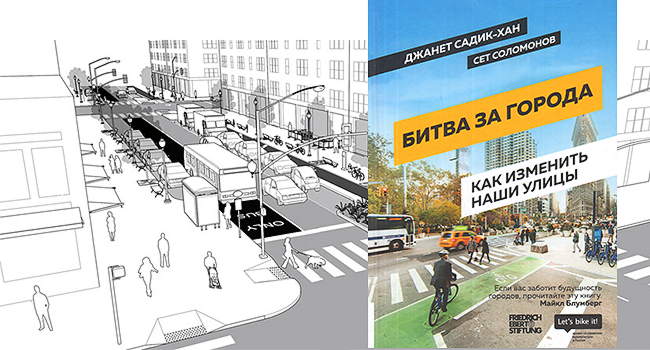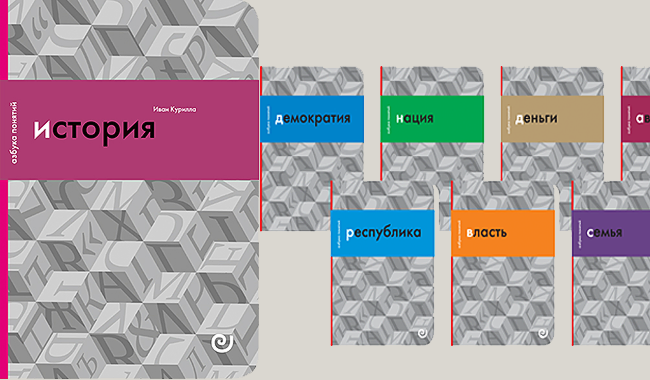Да и продолжалось c нею во всех смыслах тоже. В войне с режимом за права человека, а шла она главным образом за это, оружием были тексты. «Слово» – как это тогда возвышенно определяли. Война шла и за то, чтобы не садиться в тюрьму, прочитав книжку и передав ее на прочтение другому. Но мы о начале.
Например, вы любите стихи. Этого поэта, а не другого. Его сборник в советские времена не достать. Остается переписать от руки, а можно перепечатать, допустим, в трех экземплярах. Еще, скажем, книги, которые есть только в библиотеке. Сборник Мандельштама «Камень» выдавали в читальном зале Академки (библиотеки Академии наук), он не входил в проскрипционные списки. У меня есть близкий друг со школьных лет Вячеслав Дубинец, который мог взять «Камень» по знакомству домой на пару дней, чтобы снять копию. Был такой аппарат, не ксерокс еще, он, кажется, назывался «ЭРА». В тех организациях, где он имелся для служебных надобностей, его «держали под замком» в специальной комнате. Копирование посторонних текстов каралось. Это было первое мое незаконное деяние – участие в нелегальном размножении книжки Мандельштама. После тот же друг копии переплел. Сборник у меня до сих пор. Любимый. Вот и самиздат. Но это случилось после.
А первый самиздат, я, как ни странно, получил от вполне советского поэта Владимира Цыбина. Я не был с ним знаком, да и стихи его мне не нравились, но, тем не менее… Он считался 60-тником, входил в какие-то «стихи молодых поэтов» в журналах «Юность» и «Молодая гвардия». Я тогда заканчивал техвуз в Пензе. Наша подруга поэтесса Валя Борисова поступала в литинститут, в его семинар, не поступила (по техническим причинам, сделала какое-то неимоверное количество ошибок в сочинении), но она получила от Цыбина списки со стихами Цветаевой (из «Лебединого стана» из «Белой стаи», еще многое, не вошедшее в единственное тогда «Избранное», 1961 г.). Валя привезла эти списки в Пензу. Мы – несколько друзей – их перепечатали на машинке (машинка, кажется, из газетной редакции, где Валя работала). Чтоб у каждого было.
Когда сталкиваешься с самиздатом, ты оказываешься среди определенных людей. С перепечатанных стихов только начинается, дальше произведения современных писателей, которые до конца восьмидесятых будут ходить по рукам в списках, самиздатская пресса, политические тексты, написанные в Москве, в Киеве, всякого рода размышления, воспоминания, сидевших, бежавших из советского рая в разные годы – то есть эмигрантские издания, в том числе Набоков и Гайто Газданов с Ходасевичем, но это уже называлось тамиздат. Однако, по порядку.
Киевский круг
В Киеве, уже после пензенского бытия, меня познакомили с Юлией Александровной Первовой. Живет здесь очень талантливый инженер (это не часто бывает) Александр Верхман, вот он был причастен к диссидентским делам, а я больше через литературу. Ему мои друзья и я обязаны этим знакомством. Юлия Александровна (только так ее и называл, разница в возрасте большая, и дистанцию она держала) была биологом, близко дружила с Ниной Николаевной Грин, вдовой писателя. Имела отношение к культурным кругам, русским и украинским. Тем, которые попозже стали именовать диссидентскими, правозащитными. Давала читать книжки «из-за бугра», журналы. К примеру, парижский «Вестник РСХД». Иногда в виде фотографий. «Раковый корпус» Солженицына в машинописном списке, помнится, от нее ко мне попал. Но, может, и не от нее. Не сильно распространялись насчет источников. И самиздатскую «Хронику текущих событий» я у нее увидел.
В первых выпусках «Хроники текущих событий» сверху стояло: не пытайтесь, мол, получив этот выпуск, пройти обратно по цепочке, чтобы вас не сочли стукачом. У нее я впервые услышал Александра Галича на магнитофоне «Яуза». Галич и пел: «Есть магнитофон системы «Яуза» – этого достаточно». Это был конец шестидесятых – для меня начиналось то, что для Юлии Александровны и ее знакомых (я никогда с ними не сталкивался, но у нее, говорили, и И.М. Дзюба бывал) продолжалось. Нет, нет, она не села, но обыск у нее был. Она вообразила, что по моей наводке. Не осуждаю. Общая атмосфера была гнилая. Не сталинские доносы, но ГБ прессовало, пугало, принуждало угрозами, создавало впечатление своей вездесущести и всезнания, даже о помыслах. Общие друзья, к счастью моему, не поверили.
Были после и другие люди. Такой художник Мыкола Черныш. Случайное знакомство. Поезд Киев-Москва. Он заговорил со мной по-украински. Я впервые – это-то я точно помню – услышал такой украинский, смачный, настоящий язык, не суржик. И я его, этот язык, понимаю. Не всё, конечно, но почти. Могу ответить на нем же. Сразу захотелось его попробовать, ощутить на нёбе. Раньше не то что презирал, а был отстранен. Да в Киеве, где тогда я мог услышать? И я заговорил, с Мыколой поначалу. Выволакивал у себя изнутри слова и обороты. Из текстов, стихов в основном, которые учили в школе. Мыкола отучился в Москве, в Строгановском или в Суриковском училище. А работал в Киеве, мастерская на Прорезной, во дворах, почти наверху. Я стал к нему захаживать так часто, как только мог. Никогда я раньше не бывал в мастерских художников. Мыкола вырезал горельфы – так это, наверное, можно назвать – в больших деревянных плахах. Портреты, украинские народные мотивы, пейзажи. У него в мастерской лежал на столе рукописный сборник Мыколы Воробьева «Букініст». Его стихи меня пронзили сразу. Я шел вниз по Прорезной и бормотал «стіл накрито білим…». Однажды увидел в мастерской две высокие деревянные стелы, изогнутые, словно устремленные вверх. Мыкола их обжигал до черноты паяльной лампой. Это он заканчивал памятник на могилу Аллы Горской до першої річниці ее смерти. На следующий день я с другом пошел на Гостомельское кладбище. Вокруг могилы стояло человек 15-20. Мало говорили, больше молчали. Да и очень холодно было. Я почти никого не знал, кроме Черныша, Сверстюка, и еще кого-то. Но теперь знаю, что там были многие из тех, кого клеймили в «Вечернем Киеве» и «Правде Украины». Называли «недобитками», украинскими националистами, «перевертнями». Сверстюка я знал, встречал его в доме у Розы Соломоновны Клопер, своей преподавательницы немецкого с Курсов иностранных языков. Приходил он в гости, как и я, но помимо приятельських отношений, у нее с ним было общее дело. Она была удивительная женщина. Убежала в войну с истфака. Прибавила себе год. Заверила в военкомате, что знает немецкий. А знала она идиш. Но ее послали на курсы военных переводчиков. Потом она попала во фронтовую контрразведку. На допросах отказывалась выбивать из «языков» сведения. Следователь спрашивал, почему она, еврейка, не хочет, отомстить немцам. А Роза отвечала, что не может бить безоружных. Кричала смершевцу, что готова пойти с автоматом на передний край и убивать немцев, но в бою.
Вернусь к той первой годовщине смерти Аллы Горской. Вечером я пришел на поминальный ужин в мастерскую художницы Людмилы Семыкиной. Там было очень много людей. Больше чем утром на Гостомельском. Я потом, когда в мастерской Черныша увидел перефотографированные портреты, сделанные художником-зэком, узнавал эти лица. В отличие от кладбища много велось разговоров о разрушении, деформировании национальной культуры, о выхолащивании, исчезновении украинского языка. И в поминальных тостах сквозили эти темы. Мне запомнилось, как один человек жаловался, что постепенно забывает родной язык, негде, дескать, его употреблять. Немного смешно и грустно звучало это признание. Ближе к ночи все выбежали на улицу, на свежевыпавший снег и, будто дети, хохоча, перекидывались снежками.
Меньше месяца прошло и стало не до зимних забав. Одних заперли во внутренней гэбэшной тюрьме на Ирининской. «Церква святої Ірини / криком кричить із імли…». Так писал Васыль Стус, он сидел там в одной камере с Глузманом. Других, непосаженных… пока, запугали. Люди в квартирах избегали разговоров на определенные темы. Боялись и провокаций, и подслушек. За арестами 1972 года (большими украинскими зачистками назвал их через три десятка лет Игорь Померанцев), последовали политические процессы. Их, естественно, называли уголовными. Сроки украинским диссидентам навешивали максимальные. Например, Сверстюку дали 7 лет строгого лагеря и 5 «по рогам». Глузману соответственно – 7 и 3. Тогда к нам и пришли лагерные дефиниции. И поговорка «когда в Москве стригут ногти, в Киеве рубят пальцы» приобрела еще одно измерение. В Москве за подобные «преступления», по такой же статье давали вполовину меньше. Речь фактически шла снова-таки о текстах. У Стуса на работе нашли самиздат, тамиздат, номера «Українського вісника» и его «стихи» «чуждого» содержания. Глузману отомстили за психиатрическую экспертизу генерала Григоренко, доказывавшую, что здорового человека преступно засадили в психушку. Но и экспертиза была, в конечном счете, текстом, где анализировались другие тексты: переписка генерала и проч. Ну, а диспозиция соответствующей статьи УК УССР гласила «антисоветская агитация и пропаганда». Но не было и не могло быть ни митингов, ни демонстраций, где можно пропагандировать и агитировать, писали, перепечатывали, передавали из рук в руки тексты.
«Эрика дает четыре копии», – поется у Галича. Но закладывали в машинку по 8 и по 10 листиков папиросной бумаги. Последний экземпляр с трудом читался. Иногда давали на одну ночь. Утром верни. Очередь стоит.
Евген Сверстюк написал эссе «Собор у риштуваннях». Самиздатное размышление и осмысление легально вышедшего романа советского писателя Олеся Гончара «Собор». Коллективные письма-заявления в адрес советских правителей о конкретных случаях нарушений прав человека, о притеснениях в лагерях, о крымских татарах, которым не позволяли вернуться на родину, да мало ли о чем сочиняли и подписывали письма, нарываясь на неприятности большие маленькие – ведь тоже эпистолярный жанр. Так что фактически за литературу отправляли в лагеря и ссылки. Вот и общее дело у Розы со Сверстюком касалось литературы. Они незадолго до посадки Сверстюка начали вместе переводить на украинский повесть Германа Гессе «Последнее лето Клингзора». Роза одна бы не решилась, хоть блестяще знала немецкий и был у нее опыт литературных переводов не только Белля, с ним она даже переписывалась. Со Сверстюком можно было совершенно не беспокоиться о качестве украинского текста, его украинский был безупречен, да и писал он хорошо. Тандем обещал быть успешным, однако Сверстюка надолго отправили в Пермскую область, а после лагеря еще дальше, в Бурятию.
Роза продолжила работу над Гессе сама в честь Жени, как она говорила. Чтобы гэбуха не смогла прервать начатый со Сверстюком вместе труд. Когда перевод был завершен, она дала мне рукопись вместе с оригиналом на прочтение. Я сверил выборочно несколько мест, мне перевод понравился, даже очень понравился. Стилистика, найденные украинские эквиваленты немецких тропов, устойчивых словосочетаний, и т.п. – все выглядело весьма удачным. Честно сказать, немного я тогда понимал в украинском, да и сейчас знаю его недостаточно. Роза, вдохновившись моим отзывом, понесла свой перевод Григорию Кочуру. Рассказала ему, как они начинали вместе со Сверстюком, а почему заканчивала перевод одна объяснять не надо было. Попросила Кочура быть редактором украинского перевода повести, выправить, если что не так. Через несколько дней Кочур сказал ей, что украинского перевода не существует, «то не є українська мова», выправлять нечего, нужно все переписывать. Старий Порфірович, как называл Кочура Лукаш, был человек отзывчивый и большой энтузиаст украинского перевода. Однако же было у Розы, и у меня, и у многих, очень многих в городе весьма поверхностное представление об украинском литературном и даже грамотном разговорном языке. Откуда бы оно взялось в тогдашнем Киеве.
А поток самиздата не мелел, скорей наоборот. Он тек к нам из Москвы («Хроника», сборник «Из под глыб», непечатные стихи Самойлова, Слуцкого, Бродского, Пастернаковский роман, Ходасевич, Мандельштам, Воспоминания Надежды Яковлевны, списки и тамиздат), и от нас плыл дальше. Знаковый анекдот времени о бабушке, перепечатывающей на машинке «Войну и мир». Внучек читает только самиздат. Случалось и передавать какие-то материалы в Москву, в ту же «Хронику» о процессах в Киеве, на Украине, о преследованиях, избиениях неугодных: читающих, перепечатывающих слушающих «голоса», т.е. «Свободу», ВВС, «Немецкую волну». Мой близкий еще по Пензе друг Ефим Эпштейн жил в Москве и являлся одним из негласных, ясно, редакторов «Хроники». Из Москвы попал сборник Стуса «Світло у свічаді», изданный, если не ошибаюсь, во Франкфурте Анной-Галей Горбач. Поручили переправить его дальше. Я отнес сборник Лукашу. Тот отдал Кочуру. Дальше не знаю, ни к чему тогда мне было знать. У кого теперь спросить? «Серед снігів» Валентина Мороза и «Репортаж із заповідника ім. Берії» я увидел в доме у своего друга Славы Дубинца.
Продолжение следует