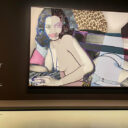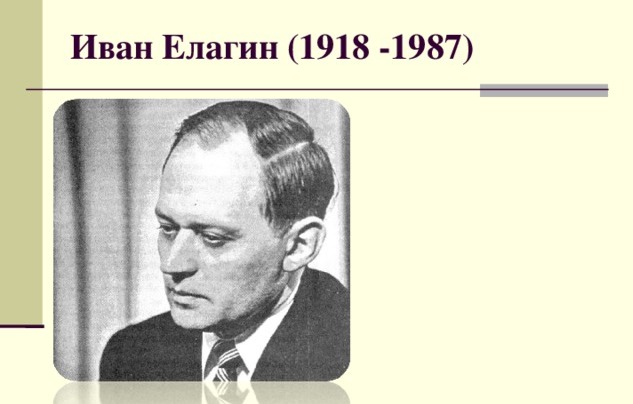К столетию Ивана Елагина
Поэт Иван Елагин в «советской» жизни (до 1943 года) был Иваном Матвеевым, но назван он был при рождении Зангвильдом, и его киевские друзья до последних лет (в недавних еще мемуарах) называли его не иначе как «Заликом». Родился он в 1918 году во Владивостоке (на тот момент юридически – в Японии), в 1919 году оказался с отцом в Харбине и лишь в 1923-м семья перебралась в СССР. Иван Елагин (Зангвильд Матвеев) сын громко известного на тот момент в Приморье поэта-футуриста и скандалиста Венедикта Марта. Полное имя, которое дал ему отец, звучит так: Уотт-Зангвильд-Иоанн Март. По воле судьбы (или по причине отцовского темперамента) города в этой биографии стремительно меняются: Москва-Саратов-Москва, был момент беспризорничества, был еще Ленинград, наконец с 1934 года Венедикт Март с сыном окончательно поселяется в Киеве. С этого момента Киев становится главным городом в поэтической (не реальной) биографии Ивана Елагина. А Елагин в свою очередь – главным киевским поэтом этого века. Хотя из семидесяти лет жизни в Киеве он прожил около десяти. Но, как в анекдоте про золотую рыбку, – там уже все было, остальное, как потом сказалось, – перевод:
Чучелом в огороде
Стою, набитый трухой.
Я – человек в переводе,
И перевод плохой.
Сколько я раз, бывало,
Сам себе повторял:
– Ближе к оригиналу! –
А где он, оригинал?
Оригинал видали, –
Свидетели говорят, –
В Киеве на вокзале,
Десятилетья назад…
У Елагина есть собственное переложение пушкинского «Городка» – «У вод Мононгахилы». Это стихи про то, как реальное пространство подменяется книжным, и мир со всеми его персонажами-собеседниками оборачивается книжным шкафом:
У вод Мононгахилы
Я одинок стою.
А подо мною – зыби
Несущийся поток.
И сам я на отшибе,
И стих мой одинок.
Киев – в своем роде константа, неподвижная данность в этом созданном книжном мире, иногда он обзывается «каштаном» (такая метонимия) и занимает постоянное место между «фонарем и аптекой»: «…Дом. Каштан. Потемневшие стекла аптеки» Смысл этой бесконечно повторяемой у Елагина блоковской цитаты не в том, что время движется по кругу, а значит ничего не движется и лишь «повторится все как встарь…». В елагинском мире ничего уже повторится не может, этот мир насквозь театрален и навязчивые перечисления киосков, фонарей, аптек и неизменного каштана – перечень декораций. Неслучайно у Елагина так много стихов о режиссерах, актерах и сценаристах, у Елагина, как ни странно, есть даже чрезвычайно удачный опыт в жанре, для русской традиции малопривычном – стихотворной комедии ошибок («Портрет мадмуазель Таржи»).
Коль речь зашла о блоковских цитатах, невозможно не сказать о значении Блока для елагинской поэтической системы. Блок здесь был первым поэтом, Маяковский явился потом, причем в большей степени – уже после известных обвинений в «советскости» и приписывания к «чуждому маяковскому гнезду» (см. выше). До тех пор, пока Иван Матвеев оставался «советским поэтом» – биографически, он следовал прежде всего Блоку, и (может быть, даже в меньшей степени, чем другие советские поэты его поколения) – через Грина – Гумилеву. Даже его новое имя (взятое в момент т.н. «ди-пи» – в лагере перемещенных лиц) – блоковская цитата:
Вновь оснеженные колонны,
Елагин мост и два огня…
Все же остальное, даже отчасти вопрос о «существе советской поэзии», проясняет одно место из автобиографической поэмы: история такова – Залик Матвеев (Елагин) в гостях у своего сводного брата Дани Ювачева (Хармса. Иван Ювачев – крестный отец Венедикта Марта).
…У Дани прямо над столом
Список красовался тех, о ком
«С полным уваженьем говорят
В этом доме». Прочитав подряд
Имена, почувствовал я шок:
Боже, где же Александр Блок?!
В списке Гоголь был, и Грин, и Бах…
На меня напал почти что страх,
Я никак прийти в себя не мог, –
Для меня был Блок и царь и бог!
Даня быстро остудил мой пыл,
Он со мною беспощадным был.
«Блок – на оборотной стороне
Той медали, – объяснил он мне, –
На которой (он рубнул сплеча) –
Рыло Лебедева-Кумача!»
Но чтобы закончить все же не на хармсовской ноте, а на елагинской:
главный елагинский критик В.Вейдле, упрямо не замечая его очевидного «блоковского» родства, отказывал ему в праве называться «лириком». Скорее всего по причине елагинского пристрастия к оговоркам-скороговоркам, краткостопному говорному стиху (и пушкинский «Городок» – кстати):
…ямб трехстопный
Покладист, и весьма
Удобен для письма,
Для мысли расторопной…
И лирический герой здесь – под стать стиху – снижен: какой-то нескладный чудак, вечно спешащий в аптеку. И не за ядом, а за йодом.
Текст: Инна Булкина