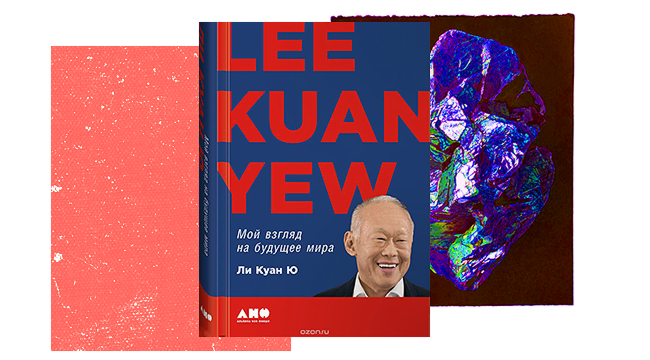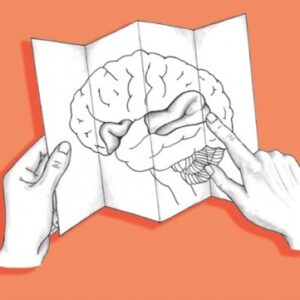С одним из лидеров украинского авангарда, композитором Александром Щетинским.
Сакральная музыка, авангардная музыка, – каковы области ваших музыкальных интересов?
Современная классическая музыка и вся классическая музыка всех времен и народов. Я не могу сказать, что абсолютно все люблю, что-то ближе, что-то дальше. Но в целом, вся классическая музыкальная культура – это то, частью чего я себя чувствую.
Что вы не станете слушать?
Не стану слушать попсу, хотя она тоже разная, но времени мало, чтобы забивать себе ею мозги. Мне близки сложные, многослойные, насыщенные смыслами произведения. Раньше я слушал много музыки XX века, сейчас меньше. Зато больше слушаю старую музыку – XVIII, XIX век.
Модная сейчас неоклассика для вас попса?
Нет, неоклассика для меня – это Стравинский, Прокофьев, Шостакович, Бриттен, Барток, частично даже Шенберг и его школа. Это очень интересно! Мне говорили, то, что я пишу – тоже какая-то разновидность неоклассицизма. Частично так и есть, хотя многие думают, что я ближе к авангарду. Настоящий авангард разрывает связь времен и образует нечто абсолютно новое. А неоклассицизм продолжает на новом витке то, что было до него. Именно неоклассицизм оказался, может быть, самым неисчерпаемым направлением, ему не видно конца. Другие направления исчерпали себя или модифицировались, а здесь всё продолжается. Неоклассики ХХ века больше работали с барочными моделями, с моделями венской классики, но с XIX веком, с романтизмом они меньше связаны, и понятно почему: новые направления любят противопоставлять себя своим непосредственным предшественникам. Но с тех пор прошло время, многое изменилось в нас и в концертной практике, так что сегодня мы готовы осмысливать и XIX век. Только я против так называемого неоромантизма, который копирует внешние черты романтической музыки, не подхватывая и не развивая ее сущности. Остается голый пафос, демагогия и резонерство вместо живого искреннего чувства. Это то, что пишет Пендерецкий после того, как он забросил свой авангард. Такой музыки много в Америке, да и у нас и на всем постсоветском пространстве поверхностный неоромантизм очень распространился. Мне это активно не нравится и не близко.
Музыка, как математика, состоит из готовых блоков, идиом, строев, стилей и цитат.
Вопрос в органичности соединения. Если этого нет, получается эклектическая мешанина, а мне как раз хочется эклектики избежать. Эклектика – это что-то искусственное и умозрительное, а хочется, чтобы был органический синтез, чтобы проступали глубинные связи между разными подходами к музыке, между разными стилями, которые рядом никогда не сосуществовали.
Когда интерпретация перестает быть эклектикой?
Вы правы: эклектика бывает не только в композиции, но и в исполнительстве, то есть в интерпретации. Интерпретатор должен быть образованным человеком, даже интеллектуалом. Прошли те времена, когда можно было всего достичь интуицией, “нутром”, что называется. Но информированность и продуманность – только одна сторона медали. Нужна чуткость и деликатность интерпретации. Это тонкая материя, ее не опишешь словами. Творческий процесс должен быть глубоким, сосредоточенным, неспешным, нельзя в него запускать нашу ежедневную суету. Разумеется, многое зависит от таланта интерпретатора и от его профессионализма. Эклектика – обычный спутник дилетантов.
К сакральным текстам есть своды комментариев. Есть ли что-то подобное в духовной музыке: пояснение того, как она устроена, как ее правильно слушать и слышать?
Смотря какая музыка. Если музыка старая, например, барочного времени, желательно разбираться в технологии, которую применял автор, то есть знать технологию риторических приемов. Например, для того, чтобы изобразить Крест в музыке, употребляли определенные мотивы, а слушатель эти мотивы знал и понимал, о чем идет речь в музыкальном произведении, даже если это чисто инструментальная музыка без текста. Когда надо было изобразить Вознесение или Троицу, применялись другие мотивы и гармонии. На все распространенные библейские сюжеты существовали свои музыкальные приемы. Бах всю жизнь комментировал Библию совершенно определенными музыкальными средствами, именно в этом смысл его искусства. У Гайдна в 22-й симфонии под названием “Философ” изображен философский диспут, и всё показано очень наглядно, можно буквально следить за аргументами и контраргументами. Я думаю, языку барочной и классической эпох нужно обучать слушателей и тем более музыкантов, начиная с музыкальной школы, иначе огромная смысловая часть старой музыки будет им недоступна. Без этого знания, на одних смутных субъективных ощущениях в старой музыке далеко не уедешь, это все равно что читать книгу на языке, который почти не знаешь.
Тяжело композитору работать в стол?
Наверное, очень тяжело, но это не про меня: все мои оперные работы – а их уже пять законченных – поставлены, некоторые уже не один раз. Они все и писались сразу в расчете на конкретное исполнение. Так что мне было бы грех жаловаться.
Где прозвучали ваши оперы?
В основном за рубежом – в Германии, Австрии, России. Одна из них поставлена в Харькове, еще одна исполнялась в концертном виде во Львове.
Либретто ваших опер лучше хорошенько знать заранее?
Для любой оперы это нормальная практика: надо заранее знать ее краткое содержание, то есть синопсис. Под либретто мы обычно понимаем не краткое содержание, а полный текст и драматургическую основу оперы– то, что композитор кладет на музыку. Это важнейшая составная часть оперы, от либретто в значительной степени зависит, будет ли опера удачной. Дело не только и даже не столько в поэтических достоинствах или недостатках текста, сколько в его драматургических качествах. Этот фактор многие музыканты почему-то игнорируют. За подготовку либретто берутся люди, мало понимающие в театральной специфике, часто сами композиторы составляют для себя текст, не будучи литераторами и не имея ни драматургического дара, ни опыта, ни театрального образования. В результате получается нечто, напоминающее кантату, ораторию, песенный цикл, мелодраму с музыкой, литературно-музыкальную композицию – всё, что угодно, только не оперу. Опера отличается от других музыкальных жанров с текстом тем, что композитор создает не только звуковые образы, но сразу предполагает их сценическое воплощение, изначально закладывает в музыку сценическое действие. Если этого нет, возникает театральная пустота, которая погубит даже хорошую музыку.

Жизнь оперы тогда (в Золотой век оперы) и сейчас – другая?
Общественный статус оперы и любого оперного автора, даже самого успешного, радикально изменился. Как относились к Верди, к Вагнеру, к Чайковскому, к Моцарту, Генделю при их жизни? Они были законодателями моды, властителями умов. Тут же дело не только в опере. Роль современного композитора классической музыки неизмеримо меньше, чем это было в прошлые эпохи. С другой стороны, оперу нельзя искусственно вытеснять из сознания, как это происходит в нашем обществе, где оперные театры отодвинуты в такие маргиналии, которых они, при всех своих проблемах, всё же не заслуживают. Опера – это сверхсовременное искусство с колоссальными выразительными возможностями. Достаточно посмотреть, что происходит сегодня в ведущих зарубежных театрах, чтобы все сомнения на этот счет исчезли.
Что может помочь нашей опере?
То же, что поможет и всему нашему искусству, культуре в целом. Общество должно повзрослеть, сейчас оно очень инфантильно, а пора бы уже определить приоритеты и поставить перед собой серьезные жизненные цели. Не просто «я хочу заработать много денег, и когда этого добьюсь, тогда – заживу и займусь всем остальным». Это ужасная тупиковая модель, потому что денег всегда не хватает, а жизнь проходит, ее не вернешь.
Что должно произойти, чтобы Дмитрий Черняков захотел поставить здесь оперу?
Дмитрий Черняков – настоящий гений театра. Он очень открытый и творческий человек, с ним безумно интересно общаться, но работа с ним не может быть односторонним движением. Театр должен быть готовым создавать современный культурный продукт. С творческими людьми у нас нет проблем, многие наши музыканты давно этого хотят, им надоело находиться в простое. Даже если они чего-то еще не умеют, у них есть достаточная профессиональная база, чтобы научиться. Осталось наладить на таком же уровне менеджмент. Как только в театре появляется креативный руководитель, который ставит большую цель и умеет организовать работу, коллектив оживает. Кстати, некоторые украинские певцы давно и с удовольствием работают с Черняковым – те же Михаил Дидык или Анатолий Кочерга, но происходит это не у нас, а на Западе.
Вернемся к вашим операм, «Бестиарий» собрал отличные отзывы критиков.
На премьере это была копродукция Екатеринбургского театра и Пермской оперы, а написан был «Бестиарий» на либретто Алексея Парина по заказу немецкого фестиваля Sacro art, там же прошла премьера. Все компоненты спектакля были на высочайшем уровне – и певцы, и оркестр, и постановка (кстати, была настоящая современная режиссура, и мне это особо импонировало, потому что я сторонник режиссерской оперы). Позднее Пермский театр показал спектакль у себя на Дягилеском фестивале, потом в Москве в «Театре Наций», в Ярославле – словом, изначально “фестивальный проект” театру пригодился и в дальнейшем. Через несколько лет «Бестиарий» поставили в Харьковском оперном театре, и тоже все были довольны (я в том числе). Дирижер Юрий Яковенко приложил много усилий, чтобы добиться нужного музыкальног уровня, потому что опера написана современным музыкальным языком, не все к нему привыкли. Была хорошая креативная постановка, режиссер Армен Калоян использовал не только сцену, в какой-то момент действия солисты выходили в зал, не прерывая пения. Я приезжал к ним на репетиции и видел в коллективе настоящее творческое горение.
Много пишете на заказ?
Постоянно. Наоборот, я думаю: когда же наступит момент, когда надо мной не будет висеть никаких обязательств, и я смогу подумать: что бы мне самому хотелось… Но заказ также дает большую свободу выбора. Например, когда мне из Вены предложили написать оперу, была только общая ориентация всего проекта: цикл из четырех одноактных опер разных авторов, объединенных темой изгнания. Какой именно сюжет брать – полностью зависело от композитора. Я подумал: кто у нас в украинской истории самый главный изгнанник? Конечно, Тарас Шевченко. А я давно к нему присматривался, хотелось сделать что-то на его тексты. И написал оперу не просто на тексты Шевченко, но и о нем самом. В основе сюжета эпизод, описанный в его Дневнике, а сам Шевченко – главное действующее лицо. Получилась опера-фантазия, как бы картина того, что происходит в голове Шевченко, это его портрет в окружении его же персонажей, мыслей, друзей, недругов.
У вас был шанс не стать композитором?
Кто знает… Сколько себя помню, я хотел заниматься музыкой. Когда я учился, много уделял внимания игре на фортепиано, сейчас жалею, что не довел свои навыки до того уровня, когда можно выходить на сцену.
Когда вы определили для себя будущую профессию?
Очень рано, когда я только начал учиться музыке. Мама привела меня в музыкальную студию, а там на вступительном экзамене всегда определяют природные данные. Экзаменаторы определили, что у меня нет ни слуха, ни ритма. Прошло где-то полгода и выяснилось, что слух есть, и даже абсолютный. Это когда человек слышит ноту и может определить только по звучанию, какая это нота и какой октавы. На самом деле в абсолютном слухе нет ничего мистического. Его можно формировать специальными упражнениями, иногда он появляется сам собой, иногда нет. Я тогда всего этого не знал, но почему-то полагал, что абсолютный слух – это неотъемлемая черта композитора. Значит, надо попробовать сочинять. Вот я и попробовал.
Сколько вам было?
Лет шесть. Я еще был в детском саду и очень любил там музыкальные занятия. Воспитатели это знали и говорили мне: «если не доешь или не поспишь – не пойдешь на музыкальные занятия». Других аргументов не требовалось. Была огромная тяга к музыке, но исключительно к классической. Советские песни, которыми тогда было забито радио, мне уже тогда не нравились категорически. А сегодня я больше всего не переношу попсу, особенно ту, которая идет из России. В этой музыке есть неприятный тюремный надрыв и безнадежность, это депрессивная по своей сути музыка, она бесцеремонно лезет к тебе в душу и программирует человека на поражение. Западная попса менее навязчива, хотя и в ней я ничего привлекательного для себя не вижу.
Ваши первые музыкальные увлечения.
Дома были пластинки, я их слушал бесчестное количество раз. Моцарт, симфонии № 40 и 25. Была запись оперы «Риголетто» Верди, с Козловским, на русском языке. Перевод там ужасный, можно было испортить себе поэтический вкус, но как-то обошлось. Была пластинка сонат Бетховена, хорошее исполнение, Вальтер Гизекинг. А еще у меня была пластинка «Слоненок пошел учиться» – это классическая сказка Давида Самойлова, в ней была хорошая музыка Бориса Чайковского. Когда я стал учиться музыке, пошел традиционный фортепианный репертуар – прелюдии и инвенции Баха, сонаты Моцарта и Гайдна, Бетховен, Чайковский, Григ, Мендельсон, Шопен… Я это все пропускал не только через уши, но и через пальцы. Оно хорошо отложилось в сознании и сейчас во мне работает.
Вы довольно долго преподавали музыку.
Не так долго. Сначала я в детской музыкальной школе преподавал композицию, это длилось около десяти лет. В музыкальной школе учатся разные дети, и задачи у них разные. Занятия по композиции в первую очередь должны укрепить их любовь к музыке, а то, что они напишут – не самое главное. А потом еще четыре года я преподавал композицию в Харьковском институте искусств. Единственный ученик, который прошел у меня курс от начала до конца – Сергей Пилютиков, сейчас очень известный в Киеве композитор, важная фигура в нашей музыке, пользуется большим авторитетом. Тогда же я провел курс «Техника композиции XX века» для композиторов и музыковедов. В течении трех лет на нем занималась одна и та же группа студентов, мы очень плотно прошли весь XX век. Анализировали, слушали, выполняли практические задания. Это было в начале 90-х годов прошлого века. Интернета в сегодняшнем понимании еще не было, но открылся железный занавес. Я стал ездить за границу, привозил ноты и записи, которых у нас было не достать. С этими материалами мы и занимались со студентами. В то время такой курс был еще редкостью, не так, как сегодня, когда информация есть в избытке, было бы желание ее поглощать.
Здесь, в Киеве, хотели бы вернуться к преподаванию?
Наверное, уже поздно об этом говорить, да мне никогда и не предлагали ничего подобного в Киеве. Я думаю, в моем случае открыта другая опция – неформального общения не педагога с учеником, а коллег, из которых один старше, а другой младше. Я всегда очень рад, когда находишь кого-то близкого себе по духу и устремлениям.
Об открытости: я знаю, что вы сами связались с создателями фильма «Ампутация» и предложили им свою музыку.
Нет, все было иначе. Я участвовал в создании первого фильма Лидии Стародубцевой «Время истекло» и с тех пор мы с ней стали друзьями. Как-то я даже принял участие в ее другом проекте: ролевая игра на тему “суд над композитором”. Было очень интересно, игру засняли и показывали в Харькове на одном из телеканалов, в сети есть эта запись. А когда недавно к Лидии попала фонограмма моего нового оркестрового опуса, она использовала оттуда фрагменты для своей новой работы в кино.
В чем состоит ежедневный труд композитора?
На рабочем столе, вернее, в компьютере всегда есть сочинение, которое надо закончить. Садишься, пишешь, создаешь такие условия, чтобы тебя ничего не отвлекало. Когда работа в разгаре, трудно переключаться на что-то еще. А в другие периоды я слушаю музыку, читаю, общаюсь с коллегами, хожу на концерты и так далее. Для композитора все это – тоже работа.
Мне рассказывали, что у вас готова книга разговоров с композитором Леонидом Грабовским.
Там не только разговоры. Примерно треть книги – наши с ним диалоги, но также довольно много его писем, в том числе 65 писем к Эдисону Денисову, к другим музыкантам. Я также собрал все лучшие статьи о Грабовском, которые разбросаны по разным сборникам, и сделал список его сочинений, подробный, со всеми спецификациями: какие использованы инструменты, названия частей, время звучания сочинения…
Почему о Грабовском?
Он был обделен вниманием, и заслуживает того, чтобы о нем знали больше и точнее. Кроме того, из разговоров с Грабовским вырисовывается не только его портрет, но и картина его времени.
О ком еще вы хотели бы написать?
Я иногда делаю интервью с разными людьми, их печатают наши издания.
Вы берете интервью?
Да. Я не часто этим занимаюсь, но случается.
У кого уже взяли?
Год назад было большое парное интервью с пианистами Евгением Громовым и Антонием Барышевским на разворот «Украинской музыкальной газеты». Мы говорили о Галине Уствольской, потому что они сыграли программы с ее музыкой. Мы с ними обсуждали разные темы. Недавно я сделал интервью с прекрасным украинским дирижером Виктором Плоскиной. Сейчас он работает главным дирижером Минской оперы. Мы встретились и поговорили после его очередного выступления у нас. Несколько лет назад в Киеве был Вирко Балей, американский композитор украинского происхождения. Исполняли отрывки из его оперы о Голодоморе. Тогда мы сделали разговор с ним и с певцом Джоном Дайкерсом, который участвовал в исполнении оперы. Это всё нетрадиционная журналистика, без популизма, без банальных вопросов и пускания пыли в глаза. Мне интересно говорить о серьезных и сложных вещах, но говорить человеческим языком, чтобы нас понимали не только специалисты. О музыке у нас пишут мало и пишут неважно. Высокое академическое музыковедение – не в счет, это особая сфера. Оно почти не влияет на музыкальную повседневность, в которой царит развязная поверхностная журналистика без мысли, без знания предмета. Музыкальной критики у нас практически нет. Те, кто могут писать адекватные тексты, к сожалению, их не пишут и заняты другими делами, зато за перо берутся люди, которые не особо разбираются в музыке. Но даже таких текстов очень мало, в лучшем случае всё ограничивается бойко составленным анонсом с броскими фразами, которые годятся для любого мероприятия, достаточно только поменять фамилии и названия. Дискурса о музыке нет, его надо создавать. Для начала важно хотя бы признать, что этого дискурса нет и что это огромная общественная проблема.
Справка: после окончания Харьковского института искусств (в 23 года) Александр Щетинский преподавал в детской музыкальной школе, затем еще около четырех лет – в Харьковском институте искусств. Кроме сочинения музыки Александр Щетинский занимался (и занимается) просветительством: выступает с лекциями о новой украинской музыке, проводит композиторские мастер-классы и представляет собственные композиции на международных симпозиумах, его музыка звучит на концертах и фестивалях в Европе и Америке.