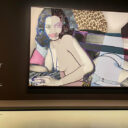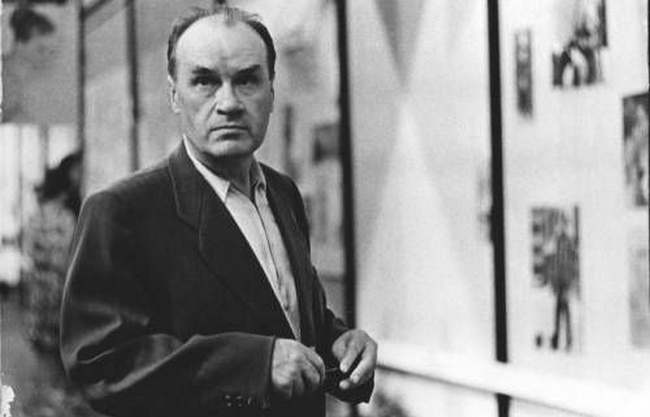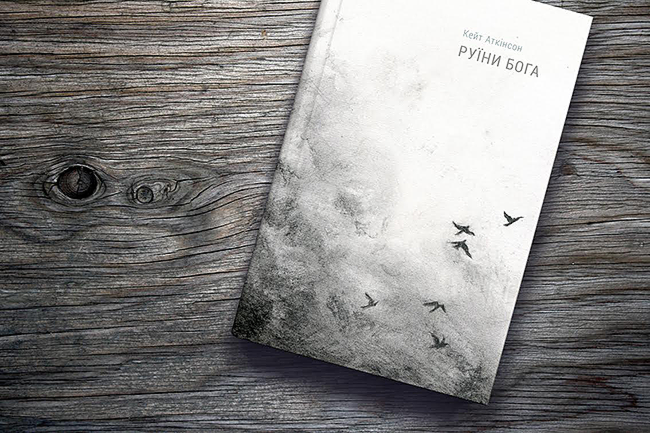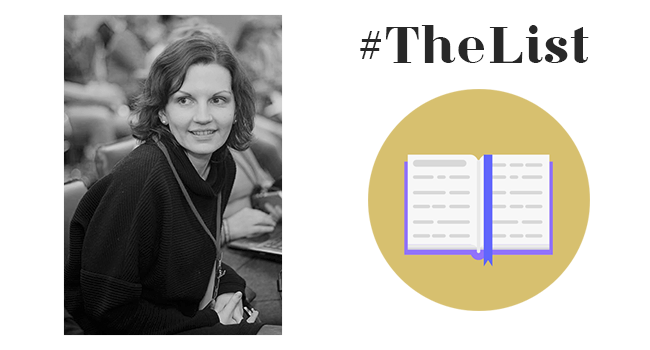Продолжение
См. также начало, продолжение, их “беседы”
Стус и…
С Василем Стусом я познакомился между его «отсидками». До того читал его стихи, переводы в списках. Там и переводы стихов Целана увидел. Послал ему в зону номер «Всесвита». В 7-м номере за 1978 год напечатали стихи Целана, переведенные Бажаном, Леонидом Череватенко и Моисеем Фишбейном вместе со мной. Кто-то из украинских друзей дал мне адрес лагеря. Журнал ко мне вернулся с интересной надписью: «Не разрешено к вручению». Написано было красным карандашом на обертке бандероли. Друзья меня потом ругали, почему я ту обертку не сохранил, она должна быть в музее. В 79-м музей Стуса даже не снился.
А знакомство со Стусом случилось в Союзе композиторов на Пушкинской. Какой-то концерт был. Высокий, красивый человек. Он мне показался еще очень элегантным в своем джинсовом костюме. Мы проговорили меньше часа о стихах, о переводах Целана. Договорились встретиться… но ему быстренько дали второй срок.
Нас познакомила Светлана Кириченко. Муж ее – Юрко Бадзё занимался историей Украины. За то и сел, а Света, филолог-украинист, виновата была по профессии, помимо прочего, да и муж на зоне. Я ее впервые увидел у Димы Михеева. Не вспомню сейчас, кто меня к нему домой привел. Вошел в комнату, а там за столом сидели красавицы, совершенные красавицы. Это были все «жены сидельцев». У них было такое вроде «сообщество». Поддержка взаимная, посылки, поездки на свидания, если повезет. На поездки и посылки деньги нужны. Многих как «антирадянщиць», ясное дело, лишили работы по специальности. Они подрабатывали, перебивались случайными заработками. Таких не очень брали на любую работу. Но не заметно было уныния на их светлых улыбающихся лицах. Я, правда, такими их увидел, никакой патетики задним числом. У Светланы Кириченко тоже были проблемы с работой, ее уволили из института философии. Сергей Владимирович Данченко взял ее в театр им. Франко уборщицей. Со стороны художественного руководителя главного украинского театра это был поступок.
Сам Дима Михеев был человек невероятной судьбы. Он был киевлянин, но закончил физфак МГУ, стал аспирантом у легендарного физика и альпиниста академика Рэма Хохлова (ректора МГУ). Михеев говорил по-английски с оксфордским прононсом. Как научился, бог весть. Вообще – талантливый очень. Он помогал Хохлову в иностранных контактах, потому у него был круг знакомых иностранцев в Москве: ученых, журналистов, дипломатов. Вполне официально. ГБ его, вероятно, пасла, но не очень. Ходил Дима в любимчиках у академика, тот ему очень доверял, блистательная научная карьера открывалась. Но в августе 1968-го советские танки вошли в Прагу, Михеев сказал себе, что больше здесь жить не будет -так он мне рассказывал. Отец у него, офицером был, погиб в Венгрии в 1956-м. Это сыграло свою роль. «Советская родина» стала для него невыносима. Уехать немедленно, но как? Израильский вызов отпадает – он не «пятая графа», вдобавок «невыездной», физик, да еще связан с академиком Хохловым. И у Хохлова при попытке даже – неприятности. У него был какой-то знакомый в швейцарском посольстве, он дал ему свой паспорт, Дима переклеил фотографию… Решили, что Дима с этим паспортом уедет, а тот заявит, что потерял паспорт. Ну, что ему сделают? Выдадут новый. Это могло сойти с рук. Но погубила его страсть к музыке. Он был безумный меломан. В Киеве у него хранилась огромная коллекция пластинок. Он понял про себя, что без родины и мамы как-то проживет, а без пластинок – никак. Стал отсылать эти пластинки из Киева за границу. Когда человек отсылает 10-15 пластинок, нормально – в подарок. Но если много больше сотни по разным адресам – странно и настораживает. Установили за ним слежку и взяли у трапа самолета, чтобы поймать на горячем.
Сначала его отправили в институт Сербского, стали чем-то колоть, пытались сделать психом. Он сказал директору института, что терять ему нечего, еще один укол, и табуретка разлетится на директорской голове. Его признали здоровым, судили, приговорили к расстрелу за «измену родине». Потом расстрел заменили 15-ю годами. Он отбыл, кажется, лишь десятку… В лагере он писал. Не участвовал в протестных голодовках, не отлынивал от работы. Он – в голове! – писал днем и ночью роман (записывать было опасно! Рецидивом бы посчитали – а статья расстрельная). «Я был беременный романом» – определял Дима свое лагерное состояние.
После отсидки он приехал в Киев, устроился электриком на завод. «Записал» свой роман. Конечно, «антисоветский». Давал читать. ГБ пронюхала. Ходили даже по дальним его знакомым с обысками. Про роман спрашивали.
Роман Димы так и не нашли. Я из него запомнил одно предложение. Главный герой стоит у окна аспирантской комнаты в общежитии и думает, глядя в заснеженный пейзаж: «Пала, пала жертвой своей необъятности». Дима фиктивно женился на еврейской девушке и все-таки прорвался за «железный занавес».
Окончание следует