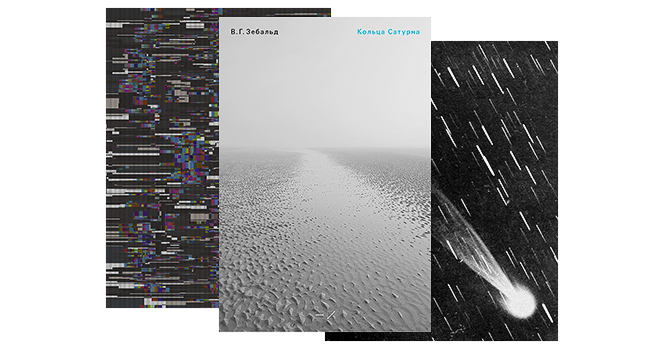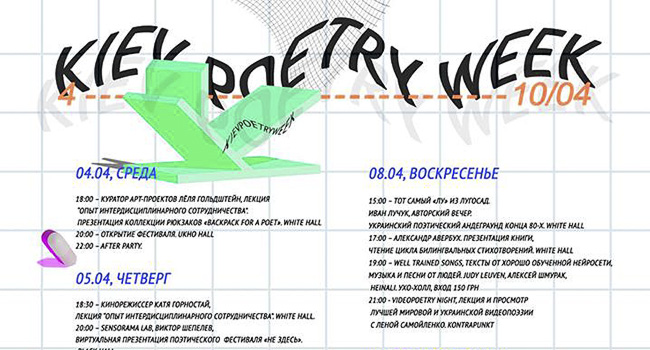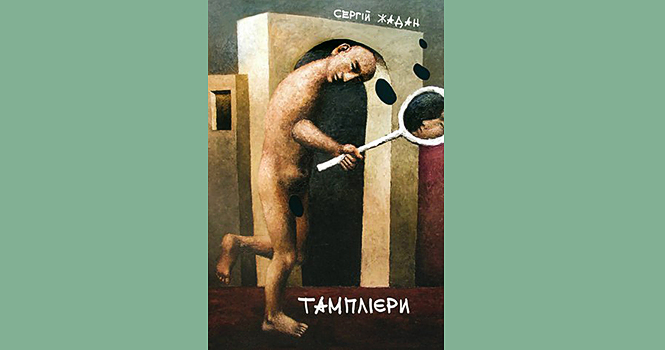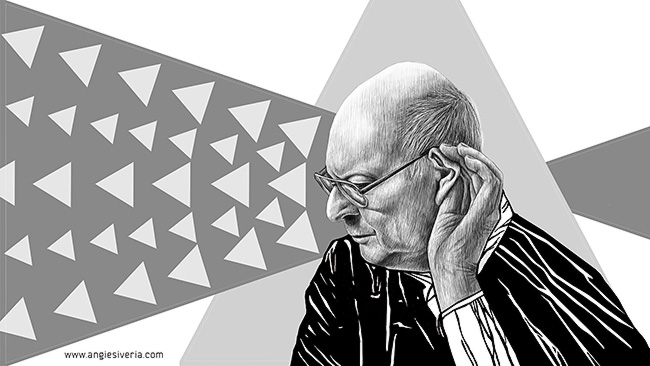Недавно прошла презентация книги Георгия Касьянова Past Continouos: історична політика 1980-х—2000-х. Україна та сусіди, InKyiv поговорил с автором об истории, историках, и их взаимодействии с миром.
Как оставить историю — историкам?
— Да никак, об этом историкам можно даже и не мечтать. На историю претендуют очень многие. Не столько на то, чтобы ее писать — чтобы ее комментировать и использовать в разного рода интересах. Фразу «оставить историю историкам» будут произносить, возможно, чаще и чаще. В принципе, ощущается некая усталость: например, польско-украинские отношения, — главное, что портит эти отношения — это история. Среди профессионального цеха, людей, которые видят это со стороны и в то же время понимают, о чем идет речь, чувствуется усталость. Чувство абсурда — то, чего нет (а истории нет в нашей жизни) осложняет жизнь огромному количеству людей. От этого многие устали, надеюсь, что и политики устанут. И тогда у историков появится шанс, что их и историю на какое-то время оставят в покое. Но 100-процентно этого никогда не будет, история — это часть гражданского воспитания, часть системы выстраивания массовых лояльностей, часть политической мобилизации, и всегда найдется тот или те, кто будет ее использовать. Особенно сейчас, когда то, что можно назвать публичной политикой стало доступно гораздо большему количеству групп, и они этим пользуются. Раньше в исторической политике была безраздельна монополия государства. Сейчас произошла информационная революция и революция в системе массовых коммуникаций, и есть возможности для быстрой мобилизации вокруг какого-то вопроса, который может быть не очень важен для большого количества людей, но его, во-первых, можно сделать важным, и в—вторых, инструментализировать, превратить в средство манипуляции сознанием
Историку мешают дилетанты?
— Не мешают, вообще. Для кабинетного ученого дилетант — это некий экзотический фрукт — на грядке с картошкой вырос экзотический сорняк, смешно, забавно. Это может раздражать, может вызывать улыбку. Но если этот дилетант решает засеять собой всю грядку, он становится опасным. У нас, в силу сложившихся обстоятельств, происходит массовизация того, что ошибочно считают знанием, — над нами незримо реет фраза Шарикова, которую он сказал профессору Преображенскому: «Теперь каждый — имеет право». К сожалению, возникла ситуация, когда каждый думает, что «имеет право» компетентно судить о вещах… а все ведь разбираются в футболе, все разбираются в воспитании, оказалось, что теперь все разбираются и в истории. Кто-то годами собирает материалы, думает, пишет, переживает. Иногда факты, которые ученый собирает, противоречат его гипотезе, и нужно что-то делать, редактировать гипотезу, менять все вообще, — все это — «невидимые миру слезы», которые в общем-то являются частью профессии. И тут появляется некто, который (даже) не прочитав то, не подумав, просто что-то ляпает. Просто — захотелось.
К тому же ценность печатного слова сейчас девальвирована, книгу может напечатать кто угодно, я вижу примеры, когда записи в блоге или переписку в фейсбуке печатают в виде книги. Эта девальвация привела к тому, что на одной полке оказываются многолетний, серьезный труд и какой-нибудь бред, псевдоинтеллектуальные миазмы, возникшие в результате действия психофизиологических факторов, иногда просто из-за отравления чьего-нибудь организма
Это раздражает историков, потому что засоряет пространство?
— Да, но в смысле самодостаточности любого нормального профессионального историка, дилетанты находятся на периферии сознания. Когда они с этой периферии вваливаются в кабинет и ходят по нему в нечищенных сапогах, тогда да, нужно что-то делать, то ли звонить начальству с требованием «окончательной брони», то ли уходить в эмиграцию, внутреннюю или внешнюю. Но кабинетов больше нет, рабочий стол историка стоит на улице, каждый может подойти, заглянуть через плечо, панибратски похлопать по нему, а может и плюнуть в книгу, — как получится.
Название вашей книги («Past Continuous…») может быть большим началом к разнообразным историческим темам, это и есть в сущности, обозначение истории.
— В общем, да.
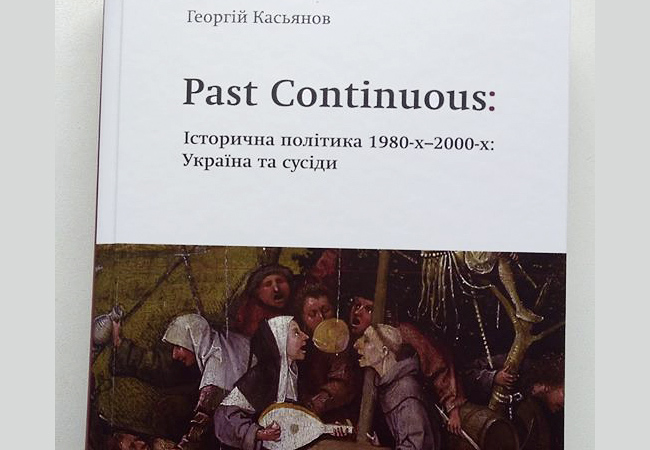
Она выросла из многолетней работы, циклов лекций, наблюдений. Кому ее важно прочесть?
— Больше всего я рассчитываю (хотя это, конечно, наивно), что ее прочитают люди, которые преподают историю. В принципе, эту книжку можно писать бесконечно, материал будет поступать постоянно. Моя задача состояла не только в том, чтобы это описать, а описать это в одной книжке невозможно, нужно много книжек. Мне и не нужно было давать исчерпывающий фактографический отчет, я хотел описать ключевые моменты, акторов, действия, результаты. Мой задачей было описать алгоритмы, и то только частично, потому что физически невозможно их все описать, и задать направление мысли (как об этом думать, как об этом говорить). Не знаю, насколько это получилось. Я устал от этой книжки. Она была готова уже к 2015 году, в силу технических причин издание стало затягиваться, а материал все поступал, его нужно было добавлять, и нужно было решать: что добавлять, а что нет. Что-то удалось добавить удачно, что-то — не удалось. В принципе, эту книгу уже можно переписывать, (впрочем, как и любую другую).
Одним словом, главная ее аудитория — люди, которые преподают историю, особенно в ВУЗах и, может быть, разумные студенты. Я бы сказал, что книга адресована меньшей части профессионального сообщества. Большая часть этого сообщества ее воспримет очень плохо. Во-первых, там есть раздел об историках, который многим историкам очень не понравится. А во-вторых, у меня был опыт с другими книгами, я видел, что основной месседж книги бывает просто не прочитан. Не потому что люди глупые и чего-то там не понимают (но и это тоже может быть), а в силу того, что внимание отвлекается на что-то другое. Например, у меня была книга про конструирование Голодомора — как формы репрезентации исторического события, там есть самый важный раздел, в котором идет речь о профессии, о том, как историк взаимодействует с политикой, к чему это приводит и так далее — это вообще не прочитали. Все бросились комментировать то, что на поверхности: что там говорил Ющенко, что его оппоненты и пр. Птички клевали шелуху, не обращая внимания на зерна.
Можно сказать, что моя новая книга — это продолженный третий раздел книги о Голодоморе.
Культурная ситуация у нас сейчас такова, что людям нужно давать что-то попроще. Не только в смысле текста и чтения. Попроще в смысле: «дайте нам рекомендацию, скажите, вот так — однозначно правильно»? А если говорить «вот так — правильно, а может быть и не правильно. А может быть, это сейчас правильно, а завтра уже нет. А может быть, в течении дня и правильно, и неправильно. И вообще: что такое правильно»? Повторюсь: эта книга не для широкого круга читателей, то есть они могут ее почитать, но вряд ли смогут прочитать. Среднестатистический читатель сразу начинает искать контроверсии: что совпадает с его взглядами—что не совпадает, а там много не совпадает со среднестатистическим взглядом – в том числе среди моих уважаемых коллег.
Как вы стали историком, в каком году поступали на истфак?
— В 1978 году, я поступал на истфак, потому что хотел быть учителем. В некотором смысле на мое решение повлиял мой учитель истории в 10-м классе, это был молодой продвинутый человек, он удивительно свободно (по советским временам) держался с нами. Глядя на него я подумал: почему бы и мне не быть таким, и целенаправленно выбрал педагогический институт.
То есть никакой номенклатурной карьеры, истории КПСС?
— Нет, с историей КПСС у меня были специфические отношения. Нам повезло, ее нам читали люди, как я сейчас понимаю, достаточно циничные, у некоторых из нас было соответствующее отношение к предмету. Я хотел быть учителем, но на третьем курсе я написал курсовую, по-моему это было что-то по истории Средних веков или раннего нового времени. И преподавательница сказала: почему бы тебе не продолжить, и я написал еще одну курсовую. Про евангельских христиан-баптистов – хороший способ легально почитать Библию. А потом стал интересоваться всеобщей историей, у меня были отличные отношения с кафедрой Всеобщей истории, и я стал писать разные работы в этой области. И в итоге где-то к пятому курсу… а тогда в Киеве не хватало учителей, и я на пятом курсе пошел работать учителем в школу, у меня было свободное посещение в институте, это был самый успешный период учебы, я стал отличником, и одновременно, работал в школе, и мне очень нравилось. И тут преподаватель, которая была моим наставником в школе, сказала: «идите заниматься наукой». Разные люди в разных местах говорят тебе: «иди заниматься наукой», — и я решил попробовать.
В Украинской ССР по специализации Всеобщая история было очень мало мест в аспирантуре, более того, темы были что-то вроде: «История рабочего движения в ГДР» или конкретней —что меня как-то не очень грело. Я заканчивал работу по сравнительному анализу Фронды и Английской революции, меня интересовала середина XVII-го столетия. Нужно было ехать в Москву или Ленинград. Моя преподавательница Лидия Валентиновна Таран, большой человек, сказала: «идите в Институт истории». О его существовании я тогда и не подозревал. Я пошел, сдал на отлично экзамены, написал реферат, думал, что попаду в отдел Гражданской войны, меня эта тема очень интересовала. Но попал в отдел истории социалистического строительства, и мой научный руководитель убедил меня в том, что «Инженерно-технические секции профсоюзов» — интересная тема. Тема действительно, оказалась интересной, потому что это были организации, задачей которых было вовлечь в социалистическое строительство старую техническую интеллигенцию. Там была интересная коллизия отношения власти и технической интеллигенции. Кстати, после этого я стал очень критически относится к интеллигенции.
Таким образом я оказался исследователем, а не учителем. Но еще год, будучи аспирантом, преподавал в школе. Мне очень нравилось работать в школе, нравилось общаться с учениками, от младших и до старшеклассников.

Эмоциональность сильно мешает истории и историкам?
— И да, и нет. Ты исследуешь что-то, если происходило что-то ужасное, люди страдали, конечно, ты сочувствуешь, никто не отменял эмпатию. Но в принципе, нарастает какая-то кожа. Поэтому, если говорить о самих событиях — не очень мешает. История — такой предмет, привыкаешь к резне. Если это интеллектуальная история — привыкаешь к тому, что между текстом и автором всегда есть некая дистанция. Текст часто — некая мистика, он может быть очень хорошим, а автор может быть в жизни полным говнюком. А может быть наоборот, человек хороший – а тексты нужно печатать на туалетной бумаге.
Гораздо больше мешают реальные и предполагаемые реакции на твой текст. Я пишу, может быть, для двух десятков человек, мнение которых для меня важно. Вот я пишу, и они у меня в голове, и мне интересно, как они отреагируют. Но это вначале работы над текстом, позже и они перестают волновать, текст движет сам себя. Это очень ценное состояние, если и когда ты в него впадаешь — работаешь по 6–8 часов, не вставая, забыв обо всем. Сам объект исследования может осложнять жизнь историку, если к нему есть сочувствие или наоборот, если есть неприятие, например, если ты занимаешься историографией и не согласен с тем, что происходит. Вот например, я занимаюсь исторической политикой и не согласен с тем, что происходит сейчас. Мне нужны серьезные усилия, чтобы это преодолеть. В этом очень помогают коллеги. Я когда-то написал книгу про современную Украину, главный рецензент ее был Алексей Толочко – в том смысле, что он читал рукопись. Это человек с потрясающим чувством текста. Он мне написал – «у тебя получается оранжевая книга, давай то-то делать с этим». Я посмотрел – да, так и было. Переписал.
Словом, когда ты пишешь о том, что называется современной историей, — оксюморон конечно, но такая история есть, — эта сложность существует. Иногда удается отстраниться от эмоций, а иногда — и нет. А я и не буду утверждать, что у меня всегда это получается. Но тут второй второй вопрос: а почему я должен прятать свое отношение? Да, я пристрастен, я пытаюсь избежать «гордости и предубеждения» с помощью исследовательских процедур, но если не удается, значит — цепляет так, что это невозможно преодолеть. Я не могу преодолеть своего отвращения к современной исторической политике, не знаю насколько видно в тексте, но она мне противна, иногда вызывает чувство брезгливости.
Если ли у вас желание заниматься просветительской деятельностью — заниматься расчисткой наслоения мифов, объяснением поля знания?
— Какой смысл? Единственные, с кем стоит в этом смысле работать — это очень узкая группа коллег, людей способных на эту тему говорить. Представьте, стоит толпа историков, «бросьте в нее камень», и нет никакой гарантии, что тот, в кого попадешь — может об этом говорить. У нас очень плохое историческое образование в принципе, en masse. Не учат думать.
Возьмем стандартный курс истории Украины, который преподают в высших учебных заведениях. Много учебников издается, а ведь не нужно много учебников. Я думаю, что учебник по истории Украины практически один, — этакий метаучебник. Потому что все равно это один мета-текст, который воспроизводят эти якобы разные учебники, в них один и тот же набор фактов, один и тот же набор рамковых интерпретаций, и так далее. Если говорить о мифах, сейчас любого среднестатистического историка спросишь « что такое мифы?», он ответит — это то, что нужно опровергнуть. Миф — это не что-то неправильное, это социально и культурно-обусловленная конструкция. Какой-то части общества она очень нужна. Поэтому, если речь идет о научной истории, то стандартная процедура — миф надо деконструировать, не смысле уничтожить, а — разложить на составные части рассказать: как они появились, и почему это важно, проследить его интеллектуальную, политическую, культурную генеалогию..
Если я это сделаю как ученый, и это попадет в поле общественного, публичного дискурса, то это может быть воспринято как глумление над ценностями. Поэтому, если говорить о просветительском моменте, я мог бы объяснить что-то, кому-то… но сейчас на это, как мне кажется, нет запроса. Поэтому принципы научной истории можно втолковывать только студентам, начинать с ними работать нужно как можно раньше, объяснять им базовые основы критического мышления, их никто не заставляет демонтировать мифы, пусть создают какие-то другие, новые. Но пусть осознают, понимают то, что именно они делают.
Культурная ситуация в Украине сейчас такова, что существует огромный разрыв между очень маленькой группой историков, которые более-менее ориентируются в мировых тенденциях, течениях, подходах (именно профессионалы историографии, не вообще историописания как такового) и подавляющим большинством тех, кто об этих тенденциях или не подозревает, или знает о них понаслышке. А чаще всего вообще ими не интересуются. В мире давно существуют дистанция между историей как научной дисциплиной и историей как обслугой политики, или историей – «воспитательницей». У нас ее редко соблюдают. А те, кто пытается это делать, во-первых, в меньшинстве, во-вторых, подозрительны — и власти, и улице.
Вам не хочется писать научно-популярные книги по истории?
— Я хочу писать научно-популярные книжки, есть несколько проектов, которые я хотел сделать, просто пока времени нет. У меня есть проект, который называется «История Украины для взрослых» с посвящением: «Жертвам школьной истории», идея очень простая, взять школьный учебник, темы из него, и изложить их не так, как в этом учебнике
Деконструировать?
— Да! Изложить нор-маль-но. Люди выходят из школы с убеждением, например, что было государство Киевская Русь. Не было такого государства. Можно написать обо всем подобном не впадая в амикошонство и не подстраиваясь под вкусы «публики» . О том, что поездка князя куда-нибудь, например, в Печерский монастырь в XI веке — это было целое путешествие, Да и в XVIII-м веке тоже. Что в ХІХ веке и даже лет 50 назад, люди видели и слышали по другому, иначе воспринимали время, пространство.
Что такое украинский исторический нарратив?
— Надо начать с Грушевского, он бы это хорошо объяснил. Он бы сказал, что это история народа, который в течении сотен лет жил на определенной территории, и который отличается от того народа, частью которого он представлялся, когда жил Грушевский. Это стандартная для восточноевропейских наций схема, первый этап — отделение от ранее общей истории. Это было сделано Грушевским и его последователями (и некоторыми его предшественниками) — они отделили историю народа. Раз государства нет, нужна общность. Следующий этап — поиск государственных форм, свойственных этому народу и его пребыванию на этой территории, — бытию. Сразу появляется государственная история. Киевская Русь наша история? Наша! Польско-Литовский период? Так мы же их цивилизовали! Ну итак далее.
Украинский нарратив — это выделение из раннего общего потока своей истории и национализация этой истории, присваивание, приватизация, из этого получается биография нации. Мы существовали 1 000 лет как минимум, вот и все, ничего сложного. Это простая, общая схема для всех восточноевропейских наций, особенно тех, что не имели или утратили государственность (которую они начинают считать национальной).
И в еще более общем плане — это превращение своей нации, о которой ты теперь понимаешь что она есть, — из объекта истории в субъект. Раньше все с ней что-то делали, а теперь она что-то с собой делает — борется, и так далее. У такого рассказа есть масса черт, например переизбыток антропоморфизмов. Очень смешно в своем романе «Бурдык» Владимир Диброва от имени своего героя пишет: «я долго думал, как же с нами это случилось. Ну понятно, лучшие посевы выкосили, все захватили бурьяны, хребет сломали, голову «отсекли», понятно какие органы взяли на себя функцию головы».
Чужой исторический опыт говорит, что путь освоения собственной истории будет долгий и болезненный, речь об усвоении уроков пока даже и не стоит?
— Я бы сказал, наоборот, идея уроков как раз слишком сильно продвигается. Только чем больше говорят: «надо извлекать уроки», тем меньше их извлекают. И тянется какая-то «дурная бесконечность» в воспроизводстве всех классических ошибок, которые делались всегда, и сейчас. Когда-то я по просьбе коллеги из Петербурга забрал из библиотеки фотокопии документов периода Руины, это были документы казацкой старшины. Я их из интереса почитал, было такое впечатление, что я читаю материалы 1990-х годов, просто один к одному, прошло 300 лет, а все то же и там же. В начале прошлого столетия Грушевский писал о «стихийном анархизме славянской природы» — адресуя это украинцам. Через двадцать лет очень разные люди – Винниченко и Донцов – написали очень горькие слова о некоторых особенностях национального обустройства. Через семьдесят лет очередной деятель сообщил: «Маємо те, що маємо», надеюсь, имея в виду и себя самого. Сейчас был повод посмотреть на то, что происходило в 1917 – 1920 — наши деятели много наговорили о роли России в те годы, не преминули вспомнить и о некоторых внутренних аспектах большой неудачи. Действительно, некоторые параллели и аналогии 2014 – 2018 с 1917 – 1920 просто поразительны. Но что-то как-то не получается с усвоением уроков. Может учительница, эта самая magistra vitae нехорошa? Или стоит обратить внимание на ученика?