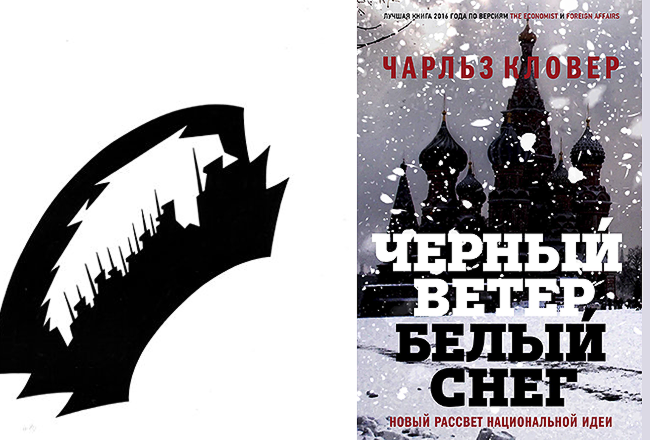Роман Тименчик написал историю «тайного, запретного, воспаленного и неистребимого культа Николая Гумилева» – в продолжение своих «Подземных классиков», – читательской истории «проклятых поэтов» Анненского и Гумилева (In Kyiv представлял эту книгу некоторое время назад).
Кроме всего прочего, эта книга о лукавой и лицемерной табуированности советской литературы, о запретах и их нарушениях, о том, как работала и как не работала цензура (в предисловии Тименчик упоминает «библиографию изданий, из которых вычеркнуто имя Гумилева»). Культовые практики принадлежат даже не столько истории литературы, но антропологии, так что перед нами своего рода антропология русской культуры ХХ века с ее «магическими практиками», с ее мифами и легендами, «сплетнями в виде версий», – всем этим неизбежным окололитературным фольклором, нароставшим вокруг запретных имен и текстов.
Мы предлагаем нашим читателям препринт – несколько страниц из книги, которая не так скоро появится в Киеве.
Роман Тименчик. История культа Гумилева. – Москва: Мосты культуры, 2017.
…Грядущие архивариусы фактов, описывающие историю советской литературы как набор перманентно эволюционировавших табу, должны быть готовы к тому, что не все запреты и даже не все предписания окажутся отраженными в официальных директивных документах. И степень рекомендуемой агрессивности поношения или благоугодной интенсивности умолчания придется определять для каждого временного среза с помощью разысканных и опознанных в каждом из этих торцов носителей духа сезона, атмосферы года, веяния данного короткого времени. Нужно будет изучать техники лукавства и обнаруживать трассы вытравленного имени в искривлениях мемуарного сюжета, во вздутиях и провалах повествовательной поверхности воспоминаний, в сбоях исторической причинности в дырявых хрониках протекших времен. Обнажать рубцы, оставшиеся от цензурных и автоцензурных операций. И чего именно в каждом конкретном году изволили хотеть те власти, которые в 1921 году казнили Гумилева, придется угадывать по отражениям их — возможно, и безмолвных — кивков.
Для тенденции нараставшего с годами некого (с точки зрения советского бонтона) неприличия всякой памяти об этом имени, а то и самого знания имени этого точным эпиграфом был бы диалог из «Села Степанчикова» о песне про комаринского мужика:
— И вы не постыдились мне признаться, что знаете эту песню — вы, член благородного общества. Но какой же порядочный человек может, не сгорев от стыда, признаться, что знает эту песню, что слышал хоть когда-нибудь эту песню?
— Ну, да вот ты же знаешь, Фома, коли спрашиваешь, — отвечал в простоте души сконфуженный дядя.
— Как! я знаю? Обидели! — вскричал вдруг Фома, захлебываясь от злости.
Для начала я, как структуралист по воспитанию, обихаживающий минус-приемы, приветствовал бы реализацию гиперболы составителя гумилевской библиографии: «Попутно отметим, что можно было бы составить и библиографию “Изданий, из которых вычеркнуто имя Гумилева”».
Многое из того, что содержало это имя, уничтожено еще в рукописях, поэтому говорить как о типологическом, с высокой степенью вероятности, образце заведомо не единичного явления поневоле можно лишь про не столь многое сохранившееся.
Сбор всего-всего, что было наговорено вокруг и около нашего героя, оставляем до будущей «гумилевской энциклопедии». На имя его налипло много фольклорных наростов, беспочвенных фантазий и натужного вранья. В книге «Подземные классики» мне довелось поместить один давний образчик бесталанной лжи, и чтобы не пускаться в унизительные разъяснения в виду очевидности фальшака, но за неимением типографских возможностей похерить эту чушь, пришлось набрать ее вверх тормашками, каковой стернианский прием нескольких читателей ввел в недоумение. В новой книге я по большей части игнорирую материал такого рода, но для аналитиков постфольклора он прибывает самосильно чуть ли не еженедельно.
Вообще, явление, обозначенное в названии книги, стало бы неплохой поживой для антропологов. Этот аспект культурной истории России можно было бы озаглавить несколько крикливой метафорой «Гумилев как табу и тотем», чтобы обратить внимание на то, что судьба наследия запретного поэта может быть описана в тех же категориях, что и некоторые архаизирующие магические практики современного общества.
Скажем, переписывание/перепечатывание/размножение стихов Гумилева (и в меньшей степени нескольких других поэтов) на протяжении шести десятилетий — это не только преодоление Гутенберга, не только самооборона против книжного дефицита, но и нечто аналогичное бытованию т.н. святых писем.
По материалу к сюжету настоящей книги примыкают ранее опубликованные мною этюды «Читатели Гумилева», «Скандалы Гумилева» и другие, к которым более чем часто будет отсылать предлежащее изложение.
Один итальянский славист рассказывал о Борисе Слуцком, что когда расспрашивал его про популярных советских поэтов, тот перевел разговор на Гумилева. Думаю, что впору будет заключить предуведомление мемом из стихов Слуцкого о русской поэзии, повторявшимся многими нашими современниками, в том числе появляющимися далее на страницах этой книги Владимиром Корниловым и Иосифом Бродским: «Она, как Польша, не сгинела». Póki my żyjemy.

Николай Гумилев на жирафе. Рис. Н.Радлова, 1910-е г.
…Еще один из подводящих путей к мифологизации поэта — вычленение читателями тотемного двойника в его стихах (вроде поэтов-прототипов хлебниковского «Зверинца», мандельштамовского «Сядь, Державин, развалися, / Ты у нас хитрее лиса», лупологии нескольких акмеистов и проч.). Таковым в итоге читательского плебисцита был избран герой стихотворения, 9 октября 1907 года по новому стилю посланного Гумилевым Брюсову из Парижа:
Я вижу, сегодня особенно грустен твой взгляд
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его испещряет волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его строен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав.
Ты плачешь?.. Послушай: далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Стихотворение заставляло вглядываться в себя не одно поколение читателей от Валерия Брюсова и Алексея Ремизов до Сергея Есенин и Павла Когана, а автора его юная читательница назвала «Дядя изысканный жираф», а Хлебников — жирафопевцем:
Младой поэт с торчащими усами,
Который в Африке
Видел изысканно пробегающих жираф к реке…
Поэт, поклонник жираф,
Взирал и важен, и самодоволен…
Жирафопевцу внимая, ясница
Прислоняет к устам сладкий палец.
Ей рассказал, как красива на Нил<е>денница,
Устав быть собою, скиталец.
Животное грациозной стройности и неги в «девятнадцатом смешном и страшном веке» стало одним из самых ценимых трофеев:
Безмолвно, горделиво, величаво стояла несчастная жертва, порой склоняя гибкую шею к своему преследователю; слезы выступали на ресницах вокруг темных влажных глаз, пока залп за залпом впивались в мускулистую грудь.
И медленно никла его голова,
По капле покидала тело кровь,
Сквозь бок израненный сочась,
Грозы подобно первым каплям.
И вот все его члены охватила конвульсивная дрожь — вздыбилась его шерсть — заколебалась его высокая фигура — и при семнадцатом залпе смертоносного нарезного ствола, словно падающий минарет, роняя свою изысканную голову с небесной высоты, его горделивая плоть распростерлась в пыли.
Гумилев читал о жирафе у своего любимого Майн-Рида, кажется, никогда жирафов на воле не наблюдавшего:
Нет животного грациознее и красивее жирафа. Футов восемнадцати вышиною, если мерить от пятки ноги до головы, жираф кажется, — как сказал бы американец, — первым животным природы. Существует только одна порода жирафов. Всеми в Европе признана красота этого животного, а также необыкновенная кротость его нрава. <…> При первом взгляде кажется, что передние ноги жирафа вдвое длиннее задних, но это не так. Эта кажущаяся разница происходит оттого, что плечи жирафа слишком высоки сравнительно с задом. Голова очень мала относительно всего туловища и помещена на шее футов шести длиною. Высота животного, если мерить от вершины бедра до задних копыт, редко бывает более семи или восьми футов. Рога у жирафа совсем не похожи на рога других животных: пористые, костистые, покрытые короткой и толстой щетиной, они не могут служить ни для защиты, ни для нападения. Глаза жирафа замечательно красивы. Нежнее и удлиненнее глаз газели, они поставлены так, что жираф может смотреть во все стороны, не поворачивая головы. Все чувства у этого животного очень тонки. Жирафы питаются листьями дерева из породы мимоз. Язык служит жирафу для того же, для чего слону хобот; длина этого органа позволяет жирафу ощупывать листья самых высоких деревьев. Кожа жирафа очень толста, часто дюйма полтора толщиною, и так непроницаема, что надо по крайней мере пуль двадцать или тридцать, чтобы свалить это гигантское животное. Боль от ран жирафы переносят молча, потому что вообще они не имеют голоса.
Вероятно, соотнесение Поэта с Жирафом, которому «видней», проистекает из укорененных в культуре семантических переходов. В фантастическом рассказе-сновидении «Четыре зверя в одном» («Four Beasts in One: Te Homo-Cameleopard») столь важного для Гумилева автора, как Эдгар По (Ахматова подбирала материал и по этой теме), человек-камелеопард назван «князем поэтов»:
— Слышите вы звуки труб?
— Да — царь идет. Взгляните, народ в экстазе обожания! Идет! — приближается! — вот он!
— Кто? где? царь? — Не вижу, не замечаю.
— Так вы слепой?
— Возможно. Я вижу только толпу идиотов и полоумных, которые кидаются ниц перед гигантским жирафом, стараясь поцеловать копыто животного. Смотрите! Как он ловко лягнул одного проходимца — и другого, и третьего, и четвертого. Право, это животное удивительно владеет своими ногами.
— Проходимца, как бы не так! Все это благородные и свободные граждане Эпидафне. Животное, — говорите вы; смотрите, чтобы вас не подслушали. Разве вы не замечаете, что у этого зверя человеческое лицо? Да, милый мой, этот жираф не кто иной, как Антиох Эпифан, Антиох Знаменитый, царь Сирии и могущественнейший из всех властителей Востока. Правда, иногда его называют Антиох Сумасшедший, но это потому, что не все способны оценить его заслуги. Конечно, он нарядился жирафом и старается как можно лучше разыграть свою роль, но это делается для поддержания царского достоинства. К тому же этот монарх исполинского роста, так что наряд не слишком неудобен или велик для него. Во всяком случае, можно быть уверенным, что он нарядился только по случаю какого-нибудь события исключительной важности. Согласитесь, что избиение тысячи жидов — событие важное. Как величаво он шествует на четвереньках! <…> Толпа называет его «Князем поэтов», «Славой Востока», «Усладой человечества» и «замечательнейшим из жирафов». Она требует повторения и — слышите? — он снова запел. В гипподроме его увенчают, предвкушая его будущие победы на Олимпийских играх.
— Но, Бог мой! Что такое происходит в толпе за нами?
— За нами? — а, да! — вижу. Друг мой, хорошо, что вы заметили вовремя. Укроемся поскорей в безопасное место. Сюда! Спрячемся под аркой водопровода, и я объясню вам, в чем дело.
Так и вышло, как я ожидал. Страшная наружность жирафа с человечьим лицом оскорбила чувства зверей. Вспыхнуло восстание, и человеческие усилия бессильны усмирить его. Несколько сирийцев уже растерзаны, и, кажется, четвероногие патриоты решили съесть жирафа. «Князь поэтов» вскочил на задние лапы и удирает.
Заморских жирафов любил рисовать Маяковский, и московская публика узнала новое прилагательное в русском стихе вместе с новым петербургским словцом от газетчика, познакомившего ее с бредом какого-нибудь нынешнего Маяковского или ему подобного «акмеиста»:
Прыгнули первые клубы
В небе жирафий рисунок готов
Выпестрить ржавые чубы.
Гумилевская «экзотичность» поддавалась преувеличению в подражаниях, перетекающих в пародии, и наоборот. Один из любопытных образцов домашнего пересмешничества — «Полинеза» 1913 года:
Брови твои — бумеранги из черного дерева,
Очи — опасней, чем пули отважных британцев;
Острые груди, как волны у горного берега,
Ходят высоко, когда изнеможешь от танцев.
Круглый живот твой — не табу ль, где скрылося золото?
Хочет им каждый из нас обладать и британец…
Кто же получит его, в утоление голода,
Будет пьянее тот виски упившихся пьяниц…
Дай же упиться из грудей кокосовой влагою,
В табу проникнуть сквозь чащу кокосовых прядей…
Этим нальешь ты мне сердце безумной отвагою, —
Буду за битву я первым в священном обряде…
Дай же мне, дай тебя сжать, охвативши под мышками,
Станет в груди оттого хорошо и устало…
Я ж для тебя схожу в лес за съедобными шишками
И принесу кенгуру молодого душистого сала.
Гумилев, по выражению Марины Цветаевой (в 1912-м) — «отец кенгуру в русской поэзии» и адресат эпиграммы Вяч.Иванова:
Парнас фауной австралийской
Брэм-Гумилев ты населил.
Что вижу? Грязный крокодил
Мутит источник касталийский,
И на пифийскую дыру
Вещать садится кенгуру…