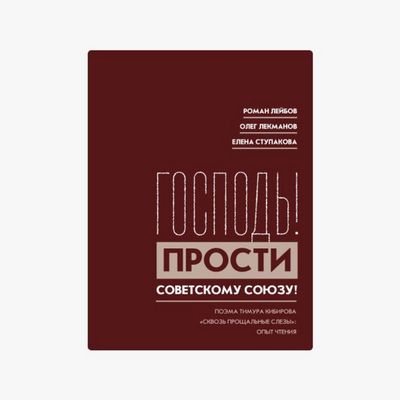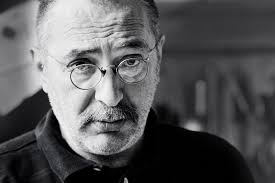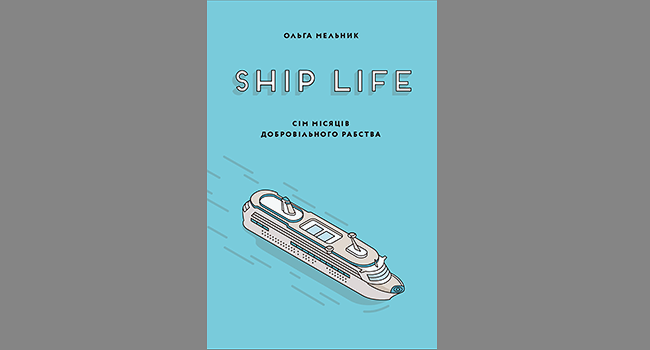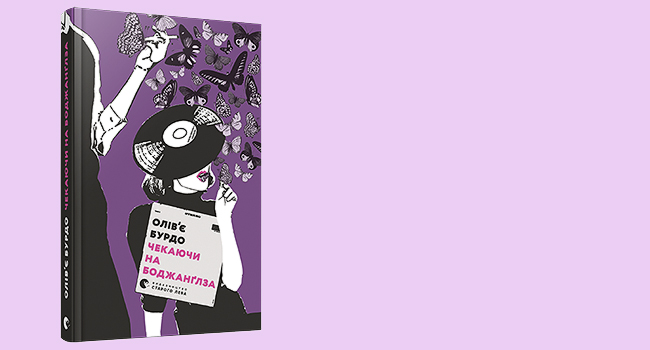Мы не впервые представляем на InKyiv опыты «кооператива комментаторов»: собственно, сами комментаторы и рассказывали здесь о книжках Юрия Коваля, и о капитане Врунгеле Андрея Некрасова. Даже про этот – совсем новый том комментариев мы уже успели написать несколько слов в книжных итогах 2019-го. Но теперь все же чуть подробнее:
Подготовленный Романом Лейбовым, Олегом Лекмановым и Еленой Ступаковой том комментариев – с предисловием, послесловием, библиографическим аппаратом и приложением мультимедийных отсылок – единственный в своем роде монографический анализ последнего советского (или первого постсоветского) поэтического эпоса. Тот уходящий мир, который Тимур Кибиров воссоздавал, адресуясь к общей памяти читателей – людей одного с ним поколения, авторы этого комментария восстанавливают заново, имея в виду других читателей.
Михаил Гаспаров заметил однажды, что «душевный мир Пушкина для нас такой же чужой, как древнего ассирийца или собаки Каштанки». Мир советского человека, воссоздаваемый Кибировым в буквальном смысле – из обломков, из цитатных кирпичей и блоков, – для большинства читателей нового века «такой же чужой» и даже более того: кажется, бальные и дуэльные ритуалы сегодняшние студенты-филологи представляют себе лучше, чем советские аббревиатуры или витрину советского продмага.
Тот советский мир, который с точки зрения исторической дистанции, относительно близок, на самом деле оказывается исчезающе далеким и требует расшифровки, разъяснения на всех уровнях: как говорили, что пели, что видели и слышали, как ко всему этому относились, что думали, в конце концов.
В марте 1987 года на экраны СССР вышел фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние», снятый еще в 1984 году, но тогда отправившийся «на полку», то есть не получивший, как теперь выражаются, «прокатного удостоверения». Независимо от сегодняшнего отношения к этой ленте с ее необарочным кинематографическим языком и пафосом поиска «дороги к храму», нельзя не признать, что она стала мощнейшим триггером перечитывания советского прошлого. Главной при этом оказывалась этическая составляющая, ощущение личной включенности в сюжет, те эмоции, которые (применительно к индивидуальной, а не к коллективной памяти) лучше и короче всего выразил по-русски, как водится, Пушкин:
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
Вынесенный в заглавие нашей книги последний стих поэмы Кибирова—ее эмоциональный итог—заставляет вспомнить об атмосфере, объединявшей многих людей эпохи. Именно это общее, разделявшееся огромным количеством граждан страны—инженеров, шахтеров, ученых, рабочих, литераторов, колхозников, домохозяек, студентов, партийных работников, военнослужащих—отношение к русской истории последних семидесяти лет как к роковой ошибке, изначально обреченному на провал эксперименту, требующему не только формального общественного, но и индивидуального личного покаяния, стало через год-другой после появления поэмы доминантным в стране. Носители этой коллективной исторической эмоции подписывались на толстые литературные журналы, публиковавшие все, что было скрыто от читателей в советское время. Это они жадно слушали выступления Сахарова на съезде народных депутатов и с недоверчивой симпатией следили за бунтующим против родной партии первым секретарем Московского горкома Ельциным. Эта эмоция, ощущаемая как моральный императив, а вовсе не талоны на алкоголь, сахар и мыло, вывела на улицы Москвы в январе 1991 года сотни тысяч человек (подчеркнем—это не гипербола, а реальная цифра) на митинг под лозунгом «Не допустим оккупации Литвы!». В итоге именно это массовое серьезное и ответственное отношение к прошлому, настоящему и будущему страны, далекое от постмодернистской иронии, а не только вполне реальное падение цен на нефть и уж вовсе не мифические «план Даллеса» и происки мирового правительства предопределили бесславный и трагикомический исход государственного переворота в августе 1991 года и конец СССР.
Об этом стоит помнить сегодня, когда такой взгляд на советское прошлое оказался вытесненным в публичной сфере натужно-конформистским рассказом о «Великой Победе», оправдывающей и списывающей все жертвы, а финал красной утопии начал представляться результатом досадного недоразумения или происков глубоко законспирированных врагов. Сегодняшнее заблуждение, поддерживаемое государственной пропагандой,—всего лишь временная аберрация, и рано или поздно национальное сознание вернется к необходимости перечитывания опыта XX века в ключе, согласующемся с фактами и реальными семейными историями частных людей, а не с киноподелками, одобренными и спонсируемыми Минкультом, сколько бы цифровых танков и ракет ни мелькало сейчас на телеэкранах.
Поэма Тимура Кибирова представляется нам поэтическим высказыванием, максимально выразившим эмоциональный опыт поколений, которые в зрелом возрасте застали эпоху распада коммунистического проекта. В этом отношении в истории литературы она оказывается зеркальным двойником «Двенадцати». Блок в 1918 году слушал музыку Революции. Кибиров семьдесят лет спустя вслушивался в скрежещущую какофонию распадающегося советского мира, переводя ее на язык русской поэзии конца века.