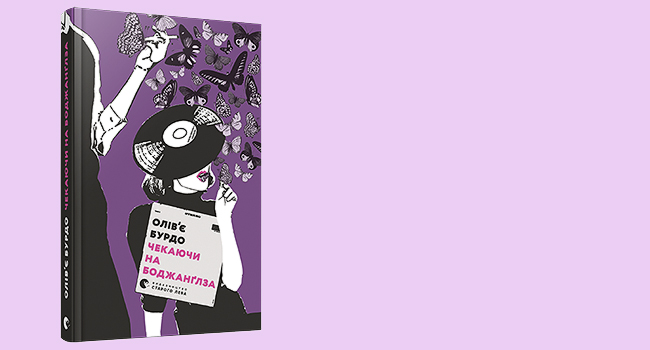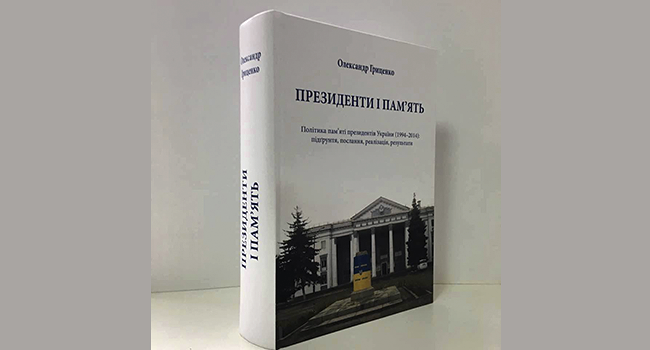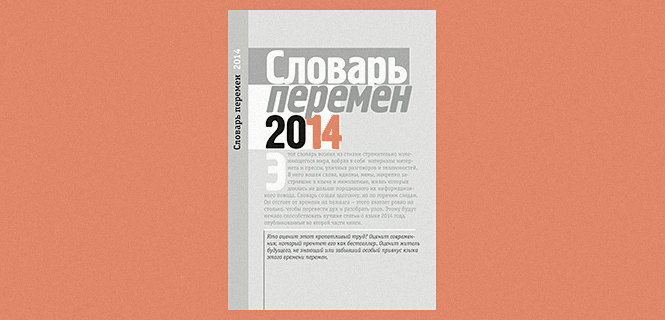Катя Петровская родилась в Киеве, на Институтской, живет в Берлине, ее родной язык русский. Книга Кати Vielleicht Esther («Мабуть Естер» в украинском переводе Юрка Прохаська) стала событием в немецкой литературе.
Эта книга – истории из жизни ее семьи, множеством нитей связанной с Холокостом. Какие-то истории Катя слышала еще в детстве, другие узнала, работая над книгой. При этом Vielleicht Esther – книга киевская, судьбы ее героев вплетены в историю нашего города, а судьба Киева ХХ века – неотъемлемая часть ее семейной истории.
В нашем поколении многим уже в зрелом возрасте пришлось заново открывать истории своих семей. В советское время родители в разговорах с детьми часто опускали существенные вещи, касавшиеся их происхождения, происхождения их родственников. Бабушки с дедушками знали и скрывали еще больше, просто потому что говорить было опасно: ребенку лучше не знать; если он не знает, никому не расскажет. О чем-то говорилось мимоходом, о чем-то намеками…
Родители, или дедушки и бабушки вдруг начинают рассказывать свои истории, которые ты никогда от них не слышал. И ты спрашиваешь: да что же вы молчали всю жизнь? – Так ты же не спрашивал, – говорят они. Часто мы спрашиваем, но вопрос был не правильно задан.
Мои родители никогда не молчали. Рассказы о скрытых болевых точках истории – не обязательно о семье – были для определенного круга делом чести, может быть единственным кодом нахождения своих. Прага, чехословацкий вопрос, Венгрия, «Солидарность», Холокост, хотя тогда такого слова не было, говорили о трагедии еврейства. Большие конгломераты тем, позволявшие находить близких себе, своих. Это можно назвать вопросами совести. К ним могли примыкать семейные истории, но определяющим становилось отношение к ситуации, к событиям. К боли другого человека.
Мои родители не молчали. Мы ходили в Бабий Яр, но как-то мне не приходило в голову расспрашивать о большем. Молчание иногда – важная составная часть памяти.
Помню, однажды спросила отца, почему застрелился Маяковский. Мне было лет одиннадцать. Отец рассказал все: про коллективизацию, индустриализацию, о том, что было после. На меня это произвело оглушительное впечатление. Я была не в состоянии совместить два мира: эту правду, и то, что происходило вокруг нас.
Мама моя – школьный историк. Рассказывать о нерассказанном она сделала своим основным делом. Мама создала школьный музей – гениальная идея, возникшая в начале 70-х, вовсе не из фронды, не из диссидентских соображений. Просто она работала в школе, которой сто лет, и решила изучить, что за это время произошло со школой; потому что история, происходит не где-то, история – это мир вокруг тебя, твоего дома, школы и семьи. Если изучить маленький участок, на котором ты стоишь, можно выйти к огромной истории, и та уже сама вступает в противостояние с официальной ложью. Например, мама обратила внимание, что в 1932 году в школу приняли армян и евреев. Оказывается, тогда закрыли национальные школы. Противовес лжи можно было найти в прошлом любой киевской семьи.
Родители иногда, впрочем, молчали, потому что не хотели погружать детей в ситуацию конфликта, вообще создавать ситуацию конфликта, и это мне понятно, каждый родитель хочет уберечь своего ребенка.
Нас оберегали, потому что было отчего. Я помню такие ситуации. Наверное, просто было рано; рано знать про Бабий Яр, рано брать это на себя.
Не случайно я написала книгу уже после 40 лет. Для осмысления истории нужна определенная зрелость или же переживание в коллективе, иначе ребенку не вынести. Я думаю, что молчание многих родителей было связано с чисто физиологическим ощущением необходимости сберечь род и не травмировать детей этим ужасом. Многие ведь просто не могут рассказать так, чтобы знание стало еще и защитой.
В своей книге я попыталась найти для себя грань: как можно рассказывать о трагических событиях, о невыносимой боли, не разрушая собственную душу, потому что в изучении страшных катастроф есть элемент почти порнографический. Наблюдая ситуации, в которых людей лишили всего человеческого, ты вдруг становишься частью зла. При изучении концлагерной жизни ты попадаешь в ситуацию наблюдателя, но наблюдатель – это как бы и надсмотрщик. Как передать опыт, как запомнить его, как не унижать людей еще раз? Они ведь не хотели там находиться, их заставили, а ты за ними подглядываешь. У меня в книге есть маленькая главка, о том, как я ищу своего дедушку в лагере Маутхаузен: я стою на пороге и смотрю на мужчин в бараке. На самом деле это было как бы видение такое, но я вдруг подумала: какое у меня, собственно, право переступать этот порог?
С одной стороны мы должны знать, что там происходило, с другой – может быть, о тех людях нужно рассказывать какие-то другие истории, а не только о том, как их лишили человеческого облика? Это все очень непростые вещи. Но я не могу сказать, что я из молчавшей семьи, скорее наоборот.
Чтобы рассказать, как заключенные жили, как выстраивали отношения (попадали в нечеловеческие условия, все равно оставались коллективом людей), – автору необходимы уникальное знание и особая форма. Вы не считаете свою книгу романом. Почему?
Это неважно. Я литературовед, и знаю, что с материалом можно делать что угодно. Слово «истории» добавило смысл, которого я не ожидала: теперь все спрашивают про маленькие истории и большую историю. Книга построена на стыке восприятия ребенка, слышавшего какие-то легенды, человека советского и большой истории, которая из всего этого вырастает. Интересно наблюдать, как вещи, которые ты, казалось бы, делаешь случайно, начинают обрастать смыслами.
Только что я была в Италии – в одном университете мою книгу включили в программу «Новая немецкая литература» – меня это страшно удивило, просто смешно, что я теперь принадлежу новой немецкой литературе. Передо мной сидело 70 студентов, и один из них спросил: а форма маленьких рассказов – это из-за Шаламова? Удивительно, мне никто не задавал такого вопроса. Не могу сказать, что из-за Шаламова, но принцип очень похожий. Солженицын повлиял на целое поколение, он совесть и честь эпохи, и так далее. Думаю, ответ можно найти в сравнении Шаламова и Солженицына, потому что передавать ужас ГУЛАГа в форме романа кажется мне жанровой неправдой. Многим это, впрочем, удалось. То, что сделал Шаламов, это даже не литература, это экзистенциальная книга, гораздо более экзистенциальная, чем Сартр и Камю вместе взятые, потому что о таком иначе писать невозможно. Его «Колымские рассказы» – это вспышки сознания, маленькие кусочки человеческой жизни, погруженные в ситуацию абсолютной энтропии, полного распада, полного небытия, между рассказами сквозит ужас, не поддающийся описанию.
Я думаю, что форма короткого рассказа у меня связана с плохой памятью, обычно на двадцатой странице детектива я уже не помню, кого убили, – можно, конечно, и так объяснить. Выбранная мной форма задана определенным типом мышления. Разумеется, результат можно назвать романом, потому что истории все равно связаны рассказчиком, но ведь и сборники рассказов тоже соединены рассказчиком. Впрочем, у меня в книге все-таки иначе, потому в конце концов – это жанр паломничества, или может даже романтического путешествия.
Начинается все на берлинском вокзале, и рассказчик движется домой, на восток, книга заканчивается на Институтской улице. Роман ли это воспитания, поиск – не важно, как мы это назовем. Может быть это история блудной дочери, ведь в XX или XXI веке и женщины имеют право сбиваться с пути. В 20-30-е годы прошлого века было написано множество романов, которые были куда меньше романами, чем эта книга, но мне почему-то не хотелось этой литературной претензии.
Как складывается судьба русского издания вашей книжки? Права на нее уже проданы?
Я не знаю, как поступить, потому что ведь по сути это русская книга, написанная по-немецки. То есть теперь мне надо по-русски написать немецкую книгу? При переводе многое теряется, а в тексте есть то, что Юрко Прохасько точно обозвал «контрабандой», то есть советские формулы, протащенные контрабандой в немецкий язык. Это удивительная идея, я не знала, что я мелкая воровка. Кстати, в книге тема мелкого воровства все время возникает и она связана с темой актера Курта Буа, если вы помните фильм «Небо над Берлином». Комик Курт Буа идет по абсолютно разрушенной Потсдамер-плац и спрашивает, где тут табачный магазин? И кто ему может в этом помочь? Только ангелы. Он сыграл в фильме «Касабланка» карманного воришку.
Книга построена на стереоэффекте: человека, выросшего в Советском Союзе, с его мифом о Великой отечественной и некотором представлении о дефицитах этого мифа и знанием того, что такое культура памяти в Германии. Ситуация, когда люди говорят: мы виноваты, мы несем ответственность за наше прошлое – гораздо более продуктивна для понимания того, что есть историческая правда, чем ситуация, когда говорят: «мы жертвы».
Так или иначе, русского перевода нет. Сама перевести я не могу, поскольку понимаю, что психологически я уже закончила эту книгу и не могу в нее вернуться. Для каждого текста или темы нужно искать какое-то новое состояние. И отдать на перевод не могу.
Хотя некоторые тексты у меня сначала были написаны по-русски, единственный полностью русский – текст о том, почему я пишу по-немецки.
Киев – недорассказанный город…
– Это моя любимая тема.
Vielleicht Esther – это киевская книга на немецком языке. При всем том, что известно о Киеве, что уже написано, он недорассказан…
– Да, это киевская книга, которую в каком-то смысле было проще написать по-немецки, потому что по-немецки есть культура, разработанная, открытая, для любого воспоминания любого человека. Я не знаю, может быть, на каком-то уровне сработала интуиция, на каком-то уровне прагматика, но у меня было ощущение, что именно эти вещи о городе Киеве в современном мире легче рассказать по-немецки. Будет резонанс, тебя станут слушать. Если ее написать по-русски, возникнут вопросы. Если написать по-украински, в этом тоже будет своя неправда – я представитель своей семьи и не могу писать по-украински, это нереальная какая-то вещь. Статус русского языка понятен: ты сразу попадаешь в какой-то узкий коридор, где светит тусклая желтая лампочка. По крайней мере мне так казалось.
Моей книге страшно повезло, что ее перевели на украинский. Я прочитала рецензию Жадана «Мабуть про нас» и меня это поразило, что все правильно понято, ее читают не как историю еврейской семьи из Киева, о каких-то других людях, это рассказ обо всех нас, поскольку это наш общий ландшафт, забытые или недорассказанные истории нашей страны. Большую роль сыграл прекрасный перевод Прохасько.
Забытые истории особенно проявляются и видятся четче, когда ты живешь не здесь (хотя у меня украинский паспорт, о чем многие не подозревают). Возможно, в Киеве я бы не решилась написать эту книгу. Ужас нашего нерассказанного мира запредельный, я имею в виду не только Бабий Яр. Мне сказала одна молодая женщина: я живу в Киеве, я не могу ездить в район Бабьего Яра. Как жить в этом городе, когда по поводу Бабьего Яра нет общего мнения, это место не является общей памятью. Там стоит одиннадцать или уже двадцать памятников, а памяти нет. Знать об этих местах не стало делом чести каждого киевлянина.
Но в принципе моя книга о том, что нет никаких евреев, русских, украинцев, то есть есть конечно, но мы все живем в одном пространстве, и нам что-то нужно с этим делать. У нас есть ситуация общей памяти и общего ландшафта, и поэтому говорить, что там убили каких-то других, каких-то чужих, и к тебе это не имеет отношение, просто бессовестно. Но что с этим делать мне непонятно, совесть невозможно насаждать.
Меня поразило, как много появилось людей, выросших в лоне украинской культуры. Они младше меня, они говорят на прекрасном украинском языке и для них это органика. Я уехала из Киева в 16 лет, это был чернобыльский год. Я не застала общего движения, когда многие выучили язык, и я не могу чтением Лины Костенко возместить упущенное. На чтениях в Киеве и во Львове было много молодежи, и эти молодые люди приняли меня как свою, а мою книгу как что-то, что должно быть сказано. Мне невероятно повезло, что есть украинский перевод, и что книга правильно понята. Петро Рыхло, черновицкий литературовед, замечательный переводчик, сделал очень много для осознания галицийского литературного ареала. Он переводит с немецкого на украинский, он писал послесловие к моей книге.
Киев – город невероятной центробежной силы и для меня разрыв между земным и небесным Киевом, это люди, которые из Киева уехали.. Литература киевская она тоже – не киевская, я не буду говорить о Булгакове. Одна из гениальнейших книг последнего времени, «Клоцвог» Маргариты Хемлин, написана от лица необразованной, тупой, жадной еврейки, пережившей Холокост, вышедшей замуж за безумца, спасшейся чудом из какого-то очередного яра. Книга эта – голос того еврейства, которого мы вообще не знаем. И книжка начинается с того, что я вот отдала своей подружке платье, а она, такая-сякая, его не вернула. А потом выясняется между прочим, что подружка погибла, как многие евреи… Книги о Киеве надо собирать повсюду. «Весна на луне» Юли Кисиной, которая живет в Берлине, – тоже прекрасная киевская книга. Девочка взрослеет, и по мере ее взросления город исчезает. Надо их издавать и гордится ими.
Моя книга возникла на пересечении бессилия и гнева. Дело не в патриотизме, а в памяти места, в необходимости описывать, в каком пространстве мы выросли и находимся. Киев – удивительное, очень трагичное пространство на сломах культуры. Мне пришлось завоевать немецкий язык методом «обратной оккупации», для того чтобы вернуться мирным путем на родину, «с лаврами и почетом». Это, наверно, немного дико. В результате, я из своей жизни сделала мертвую петлю, для того чтобы принадлежать любимому пространству, из которого, мне казалось, меня вытолкнули.
Мне кажется очень важным признать, что Украина – это последняя демократическая страна, в которой говорят по-русски.
Если вернуться к Киеву, нужно попытаться объединить все киевские истории. Их очень много. О катастрофах, в которых гибнет большое количество невинных людей вообще невозможно рассказать до конца. До тех пор, пока сохраняются забытые пространства, трагедии будут повторяться.
Я родилась на улице Институтской, и моя книга заканчивается тем, что появляется женщина в белом. Мне говорили, что я придумала образ смерти, но это реальная история. Я стояла у аптеки, нужно было переходить дорогу, и эта с гимназическими глазами старушка, ее даже старушкой невозможно назвать, вот она говорит мне: что-то часто я Вас здесь встречаю. Я ей говорю: я давно здесь не была. А она: это не имеет значения. Как будто вот этот момент воображаемого возвращения к городу, возвращения к месту, к этой улице, так же важен, как физическое присутствие.
Я ставлю точку в книге в начале ноября 2013 года, книга заканчивается тем, что через два месяца на Институтской и соседних улицах убивают сто человек.
Может быть мне очень хотелось объяснить кому-то, может даже себе, и людям, живущим в Германии, что от Берлина до Киева такое же расстояние, как от Берлина до Парижа. Только вот Париж все знают. Мы не можем отметить все катастрофы мира на своих картах, но мне очень хотелось бы, чтобы Киев был на европейской карте сопереживания, но не только под знаком Кровавых земель, как писал Тимоти Снайдер.
Катя Петровская – Алексей Никитин