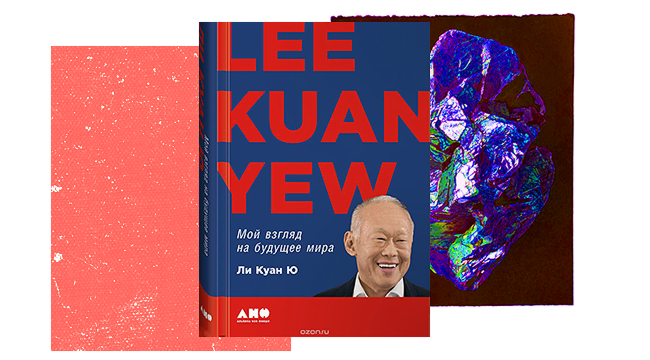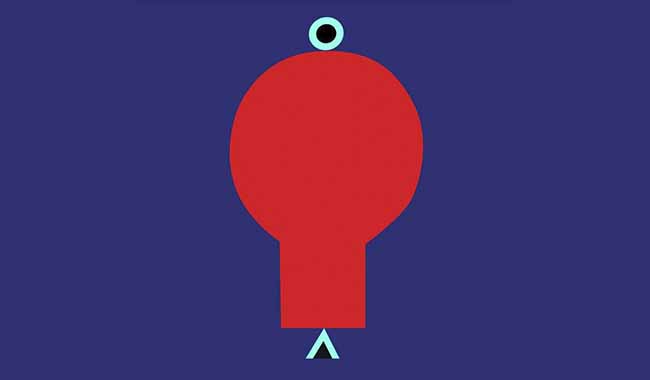Наконец-то переведено «Сатанинское танго», знакомое до сей поры читателям как одноименный фильм Белы Тарра, – в каком-то смысле, конечно, чистый Кафка (которого в связи с ним не поминал, кажется, только ленивый). Правда, другими средствами. Иной раз и более сильными.
Точно, не отклоняясь, Краснахоркаи следует теми путями в европейском миро- и человековосприятии, которые проложил его австрийский предшественник*. И это – несмотря на то, что по видимости они друг другу чуть ли не противоположны. Кафка, как все мы помним, занимался исключительно костяком бытия, его (пред)смысловыми структурами – Краснахоркаи же только и делает, что описывает вязкую, вещную фактуру существования, его расползающуюся плоть, о которой не очень понятно, на чём она вообще держится. Всё это, однако, не только не отменяет типологического родства, но, напротив, даже подчёркивает его.
Стоит сразу уточнить: Кафка – это не об абсурде. Он – о тайне, о принципиальной таинственности начал и концов бытия. Краснахоркаи тоже об этом: нам – нельзя исключать, что и самому автору – явлена только середина истории. Корни же её от нас скрыты, как и то, к чему она приведёт. Классическая кафкианская позиция.
Автор и не думает этого скрывать, предваряя книгу эпиграфом из «Замка». Его «Танго» – в некотором смысле «Замок» наоборот: если у Кафки замок – место, куда герой упорно стремится и заколдованным образом никак не может попасть, – то обиталище героев Краснахоркаи, напротив, – место, откуда никак нельзя выбраться. Даже когда очень хочешь. Тем более, когда хочешь не очень. Когда, по существу, совсем не хочешь и вообще не представляешь себе, по большому счёту, что за его пределами делать и есть ли там жизнь в принципе.
Кафка, да, занимался структурами бытия, предшествующими самому смыслу – в их непостижимости. И вот здесь они с Краснахоркаи делают совершенно одно и то же дело.
Только венгерский писатель даёт пережить эти структуры во плоти, подробно. Кафка умозрителен (от него можно отстраниться), Краснахоркаи зрителен (от его завораживающего, галлюциногенного воздействия деться некуда). Роман сам по себе настолько кинематографичен, что, мнится, Бела Тарр, экранизировав его (и тем самым создав и ему, и автору известность за пределами венгерского языкового и культурного круга), совершил чуть ли не избыточное действие: создал фильм поверх фильма, удвоил его, уже и так состоявшийся на изнанке читательских век.
При всей своей навязчивой вещности, при распирающем чувственном избытке, при тщательной фактурности вплоть до натурализма, да притом и критического (смотрите-де, в какой грязи и мерзости мы живём, как гнусно мы ведём себя!.. – а ведь истинная правда) роман Краснахоркаи – чистейшая, как спирт, абстракция.
И дело здесь, разумеется, не в позднем социализме в его обветшалости, запущенности, тупиковости, который довёл людей до такого состояния. Конечно, довёл, но он тут лишь оттого, что венгерский оригинал писался в начале восьмидесятых (вышел в 1985-м), когда этот самый социализм, вообще уже утративший к тому времени малейшую способность служить смысловым ресурсом, просто был под рукой как материал. Да, у текста есть основания быть прочитанным – хотя и с существенным сужением смысла – как социальная и антропологическая критика** (что, мол, вы сделали со своей жизнью, как вы могли это сделать?!). Русскому читателю, конечно, первым делом придут на ум «Мёртвые души» и «Ревизор», где, как и в «Сатанинском танго», основу сюжета составляет то, что пройдохи морочат голову простакам, а те и рады доверяться, пока дело не кончается посрамлением всех их надежд вкупе с ними самими. Да, временами смешно. Но это тот самый случай, когда сюжет – не более, чем повод уловить неуловляемую реальность, и текст перерастает его.
На самом-то деле никакого социализма тут, собственно, и нет (в каком-то смысле на его месте могло бы быть что угодно – да уже и есть что угодно). На нём как таковом, на социальном вообще внимание не фиксируется почти совсем. Социальное не то чтобы совсем стёрто с этих людей, «нищих крестьян разваливающегося сельского кооператива». Может быть, оно да ещё физиологическое – единственное, что в них ещё остаётся человеческого, – но оно висит на них лохмотьями, истлевая. Оно, негреющая одежда (как выразился Толстой по родственному, по сути, поводу) не прикрывает, так сказать, срама небытия (как, в свою очередь, выразился Сергей Сергеевич Аверинцев по поводу тоже очень родственному).
Примечательно, что на огромных участках текста действие (если его вообще можно назвать действием; скорее уж – пребыванием) происходит в настоящем времени – во времени, изъятом из времени, в никуда не направленном, неподвижном всегда. Вообще, когда именно – в какую из исторических эпох – оно происходит-пребывает – тоже не так понятно, как кажется. Ну, то есть, с высокой вероятностью ХХ век: в этом мире есть транзисторы, автобусы дальнего следования, не говоря уже о фотографии; скупые упоминания о недавно закончившейся войне наводят на мысль о пятидесятых, что тоже очень условно, поскольку общий тонус происходящего соответствует, скорее, застарелому социализму восьмидесятых; Сергей Сдобнов усмотрел в тексте по крайней мере одну примету, позволяющую думать, что действие не может происходить раньше 1961 года***. Но вообще этот хронотоп – глубокая провинция, удалённая от всех мыслимых центров: не только географических, но и историографических, темпоральных. То, что его насельники волею слепых судеб носят венгерские имена – тоже дела не меняет: такое могло происходить где угодно, имена и топонимы заменяются на любые другие вполне безболезненно.
Приметы бытия сползают тут и с времени, и с пространства – со всего.
Что до обильно населяющих этот текст людей, то они, вопреки множеству узнаваемых и индивидуальных, и типических черт – не типы, не характеры. (А все эти индивидуальные и типические черты – маски.) Они даже – несмотря на преизбыток человеческого, слишком человеческого – не вполне люди.
Они – сгустки среды, уплотнения образующего её тяжёлого, липкого вещества. Призраки у тьмы.
И вот – то, чего, кроме Краснахоркаи, возможно, сейчас не делает вообще никто (в позапрошлом веке отчасти нечто подобное делал Гоголь): он не просто показывает, но даёт осязаемо пережить зарастание жизни небытием. Перерождение её плоти в ходе превращения в небытие.
Кроме очевидного Кафки и не менее очевидного Беккета, давно уже упоминаемых в связи с «Сатанинским танго» на правах частей одного устойчивого смыслового комплекса, в этот текст вшито множество отсылок к разным литературным источникам, иные из которых, по всей вероятности, считывает только венгерский читатель. Но вообще тут стоит остановить своё филологическое воображение, потому что «Танго» в целом, по своему главному заданию, – предприятие явно не филологическое (просто есть вещи, о которых в европейской традиции не получается – да и вообще как-то невежливо – думать без внутренних ссылок на предшественников). Роман – не социальный, даже не экзистенциальный, даже не антропологический; он – онтологический.
Вполне возможно, что рисуемый Краснахоркаи мир – столько же земля, сколько уже и первый круг ада, – и грань между ними исчезающе-незаметна.
(И, кстати, видится весьма вероятным, что в аду всегда поздний XX век с усталым, как конец октября, социализмом.)
Перед нами – эстетика, поэтика и онтология поражения: человека как вида, рода человеческого как смыслового предприятия.
Тут поражена сама природа человека – притом в двух смыслах: и в смысле поражения как противоположности победе и торжеству, и в смысле поражённости болезнью, которая, въедаясь в ткани организма, разрушает его.
Так, а почему, собственно, «танго»? – По причине самой очевидной, даже поверхностной: по структуре. Текст, а тем самым и время внутри него, организован как танец – по кругу: двинувшись было вперёд, разворачиваясь на середине – он движется вспять и опять приводит персонажей в исходную точку. Невозможность выхода он утверждает и подтверждает самим своим устройством, отсылая к структурам (не)бытия. (Всё правильно: ад строится кругами.) Краснахоркаи вообще многое говорит самой выделкой текста, фактурой его, вязкостью – ещё прежде смысла сказанного. (Тут мы должны выразить отдельную благодарность русскому переводчику Вячеславу Середе, передавшему весь этот морок с гипнотической убедительностью.)
В аду есть всё – даже самосовершенствование и аскеза, которым предаётся добровольный хроникёр посёлка; функциональный порядок, выстроенный с адской, безупречно бессмысленной систематичностью («…ему (ведущему постоянные наблюдения за поселковой жизнью доктору. – О.Б.) пришлось собрать и расположить в оптимальном порядке всё, что только могло понадобиться для еды, питья и курения, для ведения дневника и чтения, а также несметного множества всяческих повседневных дел; больше того, он должен был отказаться от всякого попустительства по отношению к самому себе и не оставлять безнаказанной ни одной ошибки…») Есть здесь и надежда (правда, терпящая поражение), и любовь (правда, безрадостная), и даже смерть (правда, дико-бессмысленная – слабоумная девочка травится крысиным ядом), то есть, по идее, можно быть ещё более мёртвым, есть куда умирать. К чему тут ни прикоснись – всё обретает адское значение. Всё есть – только выхода нет.
Однако дело тут не только в безысходности (эка невидаль в XX веке, да и не только в нём!), но в тщательнейшей рефлексии над тем, как она устроена. Автор разворачивает перед загипнотизированным читателем-зрителем подробную физиологию ада, анатомию его, разложенную на внятно обозреваемые составные части, снятую в замедленной съёмке – чтобы можно было рассмотреть по кадрику, разобрать по волоконцам.
«Замерев на месте, госпожа Халич прижала руку к груди, но напрасно она изучала колоколом нависающий на ней небосвод настойчивым ищущим взглядом, ей пришлось признать, что, похоже, от неожиданного волнения у неё зарябило в глазах; и всё-таки неуверенность, сам факт возможности чего-то подобного, удручающий вид гиблой местности с такой тяжестью навалились на бедную женщину, что она, передумав, вернулась домой, отыскала под кипой безупречно отглаженного белья обветшалую Библию и, с нарастающим чувством вины прижимая её к себе, вновь отправилась в путь, свернула у бывшего указателя с названием посёлка на тракт и под хлещущим ей в лицо дождём проделала ещё сто семь шагов, что отделяли её от корчмы. а пока она шла, до неё – с внезапностью озарения – всё дошло!»
Казалось бы: текст романа пухнет, как тело мертвеца, в которое уже впились чёрные раки небытия.
Но самое странное, самое невозможное, немыслимое: этот текст не просто живой, – он ещё и красивый. Сама эта красота, изысканная, сложно-напряжённая организованность текста о распаде и небытии – очень сильный аргумент в пользу бытия. И в этом смысле – победа над поражением.
«Он тоскливо взирал на зловещее небо, на обуглившиеся ошмётки лета, не доеденные прожорливой саранчой, и вдруг, присмотревшись к ветке акации за окном, увидал, как следуют чередой друг за другом весна, лето, осень, зима, как будто в застывшем кристалле вечности выкидывало свои фортеля само время, прочерчивая сквозь сутолоку хаоса дьявольские прямые, творя иллюзию высоты и выдавая блажь за неотвратимость… и увидал себя, распятого меж колыбелью и гробом, мучительно дёрнувшегося в последней судороге, чтобы затем, по чьему-то сухому трескучему приговору, в чем мать родила – без знаков различия и наград, – быть переданным мойщикам трупов, хохочущим живодёрам, в чьих расторопных руках он уж точно познает меру дел человеческих, познает её окончательно и бесповоротно, ибо он к тому времени уже убедится, что всю жизнь играл с шулерами в игру с заранее известным исходом, под конец которой он лишится последнего средства защиты – надежды когда-нибудь обрести дом.»
_________________________________________
* Один из первых русских рецензентов романа, Сергей Сдобнов, не без оснований усмотрел у Краснахоркаи сходство и с другим австрийцем – с Музилем, с его «Человеком без свойств» – «незаконченным повествованием о распаде Австро-Венгерской империи, о бесконечной изменчивости, текучести и неопределенности» (https://gorky.media/reviews/ya-kak-vypyu-tolko-o-smerti-i-dumayu/). Правда, у Краснахоркаи всё, напротив, слишком даже определено, о чём ниже.
** Сергей Сдобнов, например, так и прочитал: «”Сатанинское танго”, – сказал он, – больше всего напоминает антиутопию, в которой метафорически рассказывается о судьбе стран социалистического блока с разваливающимся хозяйством: “все равно все развалится в жопу”» (там же). И ведь не скажешь, что это неправда. Правда, только не вся. То, что такое прочтение возможно, но никак не исчерпывающе, замечает и Ольга Серебряная (https://www.svoboda.org/a/28910957.html)
*** «…на руке доктора остановилась “Ракета”. Эти часы пошли в массовое производство в 1961 году» (там же).
Текст: Ольга Балла
Ласло Краснахоркаи. Сатанинское танго / Перевод с венгерского В. Середы. – М.: Издательство АСТ: CORPUS, 2018. – 352 с.