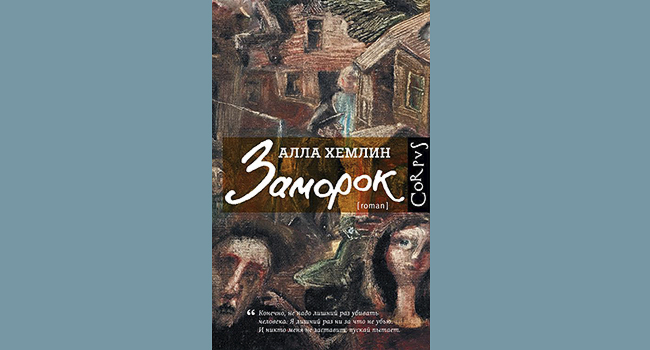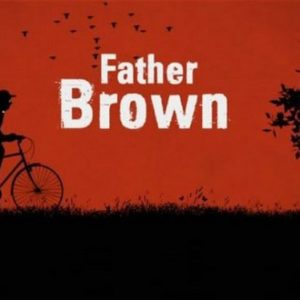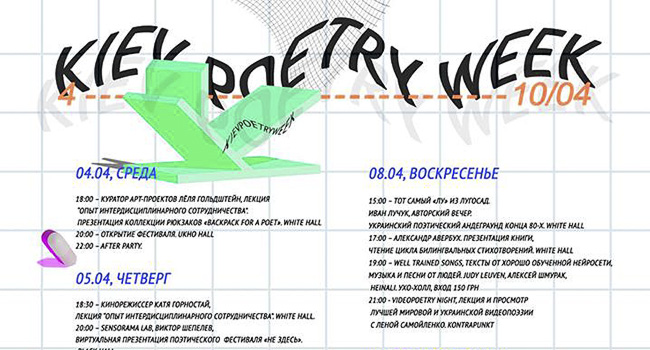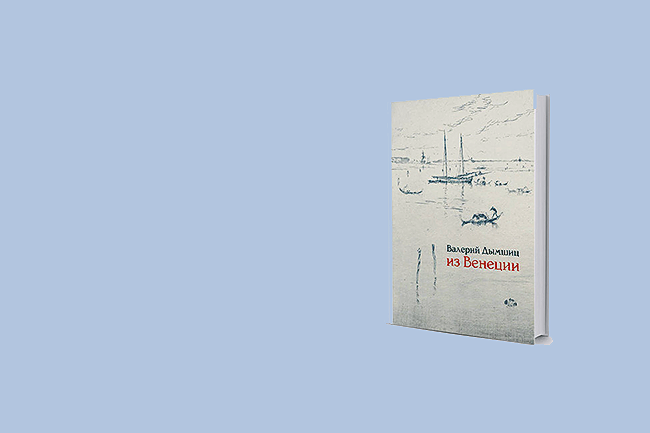Скоро в издательстве Corpus выйдет роман Аллы Хемлин «Заморок», его действие происходит в Чернигове с 1941-го по 1961 год.
Алла Хемлин — сестра Маргариты Хемлин (1960–2015): «Рита и я – близнецы. Всегда были. И всегда будем. В детстве мы с сестрой были очень похожи. Во дворе нас называли Алрита или Риталла и с удовольствием путали. Мы отвечали тем же, то есть откликались, когда звали не ту. Первое – а чего они? Второе: если ты – это я, а я – это ты, значит, мы – по правде.
Мария из романа «Заморок» сказала бы: «Допустим, человек знает, что человеку положено целое. Тогда человек уже всегда себе намечает не кусок”. Мария “такое и похожее” не сказала. Зато сказала “про много еще что”. И главное, сказала про “надо понимать”. Из всех осталась я. То есть я и Рита. “Надо понимать”.
«Заморок» был начат с сестрой, писался вдвоем, посвящен сестре, и следует за ней, и звучит узнаваемым, разделенным на двоих голосом. Так звучали герои «Живой очереди», «Клоцвога», «Дознавателя», «Искальщикеа». Надо понимать.
С разрешения издательства и автора In Kyiv публикует отрывок из романа.
Алла Хемлин. «Заморок», М.: Corpus, 2018, 320 стр.
*******
5 декабря 1960 года. Чернигов.
Дом офицеров, собрание в честь Дня Конституции.
Рассказывает Мария, подавальщица в буфете (главная героиня романа).
Товарищ Осипов, Александр Иванович – начальник Дома офицеров;
Валентина – уборщица;
Катерина – буфетчица,
Надежда – библиотекарь,
Нина и Галина – работницы кухни,
Норинская – председатель женсовета;
Степан Федорович – повар,
Яков – киномеханик (он называет Марию Изергиль).
Перед собранием уборщица Валентина попросила Нину помочь, чтоб убрать в кинозале. Хоть подмести и тряпкой пройти по чему там. Конечно, с утра Валя в кинозале и пол помыла, и как положено. А после утра уже показали кино, а смотрели ж кино люди. А начальство на собрание придет, так начальство ж не с людей спросит. А у Валентины получился радикулит на всю-всю-всю спину, а у Нины получилась посуда на все-все руки. Люди ж идут и идут!
Конечно, я согласилась, чтоб помочь Валентине. Я ж всегда помогаю. Тем более что Катерина вызвалась меня подменить. Я подумала, что Катерина сильно соскучилась постоять возле стола.
Я сама по себе всегда никого не прошу. Первое. Я так приучилась. Потому что сделай сам, а то люди скажут, вроде и не делал.
Да.
Под самый конец уборки я поднялась на три ступеньки и ступила на сцену.
По правде, мне и раньше хотелось, а тут случай. Тем более уже и стол поставили под красной бархатной скатертью для президиума, и трибуну рядом тоже.
Я подумала, что давай-давай, товарищ Осипов, что выступь перед людьми! Научи, как жить!
В ту самую секундочку я не хотела думать про Александра Ивановича, оно само выскочило. Я решила на целый вечер больше не пускать подобное наружу.
Я с зала и не видела, что пол щелястый и на сбивах доски обтреханные.
Я подумала, что в зал не сяду, а стану тут. Стану и буду смотреть все-все оборотом.
Я сказала Валентине, чтоб Валентина шла себе, а что я уже буду в зале ждать начала.
Я и стала ждать — в углу. У нас в Доме офицеров на сцене был занавес с бархата, как в театре. В ту секундочку занавес весь-весь собрался в углу. С занавеса получилась сборка волной. Мне понравилось. У занавеса была еще и бахрома. Бахрома была золотая, кистястая, хоть и с черными растеками. Валентине б надо было занавес подтыкивать, а она не подтыкивала. Валентина ж, наверно, воду в ведре не переменяла. Валентина ж одной водой мазала и мазала. По золоту так и мазала грязюкой с всех щелей. Там были и палки-железяки. Палки-железяки притыкнули до стенки, а плохо притыкнули.
По правде, мне нравится, когда всюду порядок и аккуратность. И среди людей тоже.
Я смотрела, как входили, как садились, как некоторые пересаживались по сколько-то. Как рассчитывали, кто куда сядет, чтоб вроде нечаянно попасть сбоку.
Пришла Катерина, уселась на последний ряд, тут и Степан Федорович, и Нина, и Галя тоже. Надежда пришла, села перед Катериной. Надежда вроде взяла — раз! — и своим начесом загородила Катерине дорогу. А Катерина — раз! — и не пересела. Катерина получилась молодец. А Надежда получилась дурная.
Норинская тоже заявилась.
Норинская принесла с собой белую бумажку и карандаши, положила перед всеми-всеми стульями в президиуме. Потом Норинская — раз! — и уселась в президиум.
Я уже думала про Норинскую и про стыд, а тут опять. Мне сильно не понравилось, что Норинская, когда садилась, так терлась задницей. Для женщины такое некрасиво и не скромно. Норинская, когда садилась, еще и юбкой мотанула. Мне аж в нос ударило “Красной Москвой”. Я подумала, что есть бесстыжие, которые поливаются и там тоже. Норинская и языком своим облизалась. А Норинская ж как женщина была уже старая. Норинской надо было б работать для людей, а не тереться по всему на свете. Норинской надо было б ….
Да.
Конечно, торжественное собрание проходило торжественно. Сильно пáхнул одеколон “Шипр”, сильней “Красной Москвы”, и начистка для сапогов тоже пáхнула.
Я смотрела, кто собрался на собрание.
Допустим, в такой день мне надо было б смотреть на лица коллектива и военных, которые пришли отметить, и думать про что никакая сила нас не сбóрет, ни на земле, ни на небе. Про землю — это всем-всем понятно, а про небо — потому что ж в Чернигове есть и летное училище тоже. Про что никто нас не сборет на воде я и не подумала б, потому что в Чернигове воды нету. Только речка Десна, а еще и Стрижень, а это ж не вода для войны.
И, может, мне б от таких дýмок стало хорошо. Так хорошо, что страх. Может, мне б захотелось сделать что-то большое — под момент.
Допустим, стать на колени, своей рукой забрать край кистястого занавеса, вроде знамя родины в горячей крови, и сказать наверх одними своими губами, чтоб никому не мешать:
— Боже! Убей всех империалистов!
По правде, у меня в голове было другое. Я у себя в голове была бесстыжая.
Я думала про себя, что я простая подавальщица, что на мне бутылочное платье с хорошей шерсти, что на мне новисенькие чулки с капрона на новисеньком поясе с атласа и с резинками, что на мне новисенькая шелковая комбинация, что на мне трусы не сатиновые, а новисенькие, с шелка, что один лифик на мне подгулял. Лифик мне шила Зоя, с прострочкой, у нас и на базаре с рук стоящего не купишь, я наметила в Киеве купить, как у Пановой…
Я думала, что у Норинской тоже ж, наверно, лифик не какой попало, что Норинская с Польши, наверно, навезла и того, и сего.
Я думала, что у Катерины повна пазуха цицёк, что у Надежды кролиные уши… А что у меня под всемвсем — чистое девичье тело, что у меня тело как бархатное, вроде занавес или вроде знамя родины, а может, и как скатерть с стола, где президиум.
Александр Иванович в эту самую секундочку взял — раз! — свою руку положил и трогает материю, и трогает…
Я в эту самую секундочку подумала, что ой, Александр Иванович, ой, Александр Иванович, ой, Александр Иванович, что как же ж мне, Александр Иванович ………………………………
Потом я подумала, что получились вы перед мной, Александр Иванович, нечестная свыня, что знамя родины тому порука.
Потом я подумала, что ой, какая ж порука, Александр Иванович, рука ж какая у вас, какая…
Я стала на колени, забрала себе в кулак край кистястого занавеса, вроде знамя родины в горячей крови, и сказала наверх одними своими губами, чтоб никому не мешать:
— Боже! Пусть Александр Иванович меня потрогает!
Не знаю, как уже это получилось, а только когда я встала с коленей, меня трошки повело, в голове взялось вроде туманом.
Конечно, я захотела удержаться на своих ногах, а не удержалась и боком наехала на палки-железяки. А палки-железяки наехали на меня, я отскочила в сторону, а они — раз! — и начали падать. А высоченные ж! Может, метра на три. Что палки уже там крепили, как уже крепили… Упало — и все.
Да.
Я ж отскочила, а палки-железяки пошли себе дальше и дальше — на сцену повдоль. И упали палки назади стола с президиумом.
Конечно, люди подняли шум и крик тоже.
И конечно, люди повскакивали с своих стульев. Кто бежит к президиуму — спасать, кто бежит с зала — самому спастись или зачем уже там…
А я ни с места.
Я глаза утупила на президиум и глазами понимаю — не убило.
В эту самую секундочку меня сильно-сильно потянуло за спину.
Это был Яков.
— Шо, Изергиль, смертельный номер показуешь?
Яков сказал свои слова шепотом. А я уже перебирала ногами назад — так Яков меня тащил за собой.
Я хотела объяснить Якову про себя и про палки-железяки.
Яков мне не дал.
— Мовчи! Я через дырку в своей будке все бачив. Голову себе не убей…
Яков затянул меня в свою комору через маленькую дверку на заду сцены и наказал: — Цыть! Счисть с себя, шо нападало! Я зараз!
Яков пошел с коморы через привычные мне двери.
Как Яков мне сказал, я в ту же секундочку подумала, что на меня обязательно напáдало с занавеса и прочего. И пыль, и еще, что по дороге нацепилось.
У Якова зеркала не было. Я обсмотрелась, где хватило поворота. Свою голову я не видела, а, конечно, там тоже. Я опять подумала про порядок и аккуратность, что пускай пылюки целый воз, а палки ж можно было хоть…
В эту самую секундочку меня аж кольнуло в самое мое сердце. Эти палки — про палки ж подумают, что палки нарочно уронили. Тем более в такой день и на такое место. А кто ж уронил? А я и уронила, про которую органы давно мечтают, чтоб разоблачить.
В голове опять взялось вроде туманом.
— Изергиль! Шо ты за стенку схватилася? Уже приказ есть, шоб тебя до стенки поставить?
Конечно, Яков разбудил у меня злость, и от этого поганый туман выгнался. Я сказала словами, такими, какими говорил Яков.
Я ж с людьми всегда так.
— Яков, шо вы меня рвете? Я ж не специально! Так получилося! Я не виновата! Вы ж сами и свидетель! — Ага. Не виноватая Изергиль. Я этому делу честный свидетель. А зачем гражданка Изергиль туда по
пряталася? Шо она там на коленях своих делала? Шо руками своими шарудерла? Шо глазами своими наверху высматривала? Вот вопросы вопросов!
Я заплакала.
Яков тыцнул меня в плечо:
— Хорош! Зараз давай делай фасон, шо дависся с страха, шо тебе плохо. Я тебя буду как товарища с поля боя вести. Ага?
Я сказала Якову, что ага.
— Приведу на рабочее место, говори, шо сидела у меня в коморе, шо вместе смотрели через дырку, шо как раз вышла до уборной, а потом прибежала на крики и упала на пол, шо потом опять выбегла в коридор, а я тебя подобрал, назад в свою комору дотащил, вернул в чувства… Понимаешь?
Я сказала Якову, что понимаю, и спросила:
— А там щас шо?
— А нишо. Органы приехали. Всем сказали занять свои позиции. Допрос будут делать. Яков обхватил меня своей рукой поперек спины с заходом наперед, и так наперед, что аж ребра мои хрустанули.
— Совай ногами… Не бежи, а совай…
Я выполнила приказ Якова.
Уже на подходе к буфету спросила у Якова:
— А что сказать, зачем я до вас пошла, а не прямо в зал?
— Молодец, Изергиль. Правильно указала. Скажи, шо я заманил, шо пообещал интерес — смотреть через дырку.
Я сказала Якову, что мне будет стыдно такое рассказывать, что не поверят…
— А про палки поверят. Ага? Я молчала.
Наши в буфете все-все сидели. Все увидели меня и ойкнули.
Потом все-все заговорили разом, сказали, что уже хотели меня бежать искать.
Мы с Яковом на два наших голоса передали свой рассказ.
В эту самую секундочку зашел Александр Иванович и человек.
Александр Иванович сказал этому человеку:
— Ну тут все наши, чужих нет. Вот — работницы, все женщины. Только Самойленко Степан Федорович — мужчина, фронтовик, коммунист.
Степан Федорович уже стал на ноги в струночку. Женщины и я с женщинами сидели, а когда увидели, что Степан Федорович не распускается, встали тоже. Да.
Человек сказал Александру Ивановичу, что понятно.
Александр Иванович с человеком развернулись и пошли с буфета.
В эту самую секундочку мои ноги меня опять подкосили. Я села первая с всех. Конечно, это было плохо. А так уже получилось.