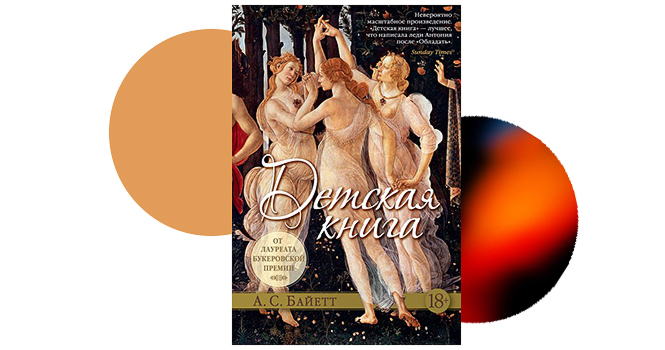Богословие не занимается внешними обстоятельствами, его интересуют существенные вопросы человеческого бытия в его соотнесенности с бытием Бога.
Ольга Седакова. Мариины слезы. К поэтике литургических песнопений. – К.: Дух і літера, 2017
…
То, что слова литургической поэзии – слова из другого, на русский слух «почти понятного» языка, пожалуй, только усиливает их поэтическое воздействие. Но здесь нужно сказать со всей определенностью: без специального изучения церковнославянского языка литургические тексты остаются или вовсе непонятными – или понятыми превратно. Я это хорошо знаю по опыту преподавания церковнославянского языка. Кто переведет слово за слово хотя бы такой стих:
Предварившия утро яже о Марии, –
или первый стих акафиста:
Взбранной воеводе победительная?
Кто угадает, что
Изменил еси доброту зданий
означает: Ты искупил красоту творений? Кто прочитает такой стих из стихиры Великой Пятницы:
Егда Силы зряху Тя Христе, яко прелестника от беззаконных оклеветаема, –
Когда ангелы видели, как Тебя, Христос, беззаконные (судьи) обвиняли во лжи?
Вероятно, тот, кто может прочесть эти стихи на греческом. Современный русский язык ни своей грамматикой, ни семантической системой не открывает прямого пути к церковнославянскому.
Но и знание церковнославянского языка само по себе не гарантирует понимания. И в русском переводе, я уверена, эти тексты останутся непрозрачными. Литургические песнопения предполагают еще многое: и хорошо уложенное в памяти Св. Писание, и навык думать в богословских координатах, и быстрое узнавание символов. Так что современному человеку потребуется обширный и разносторонний комментарий к самому небольшому гимнографическому фрагменту.
В мой замысел не входило такое сплошное комментирование. Я думала сосредоточиться на одном: на собственно поэтической стороне этих песнопений. Византийская гимнография строится по другим законам, чем авторская поэзия Нового времени. Вот эти черты средневековой формы мне и хотелось описать.
…
Читатель, привыкший ожидать от анализа поэтики разбора формы в узком смысле: ритмики, звуковой организации текста, тропов, построений (типа параллелизма или хиазма), возможно, будет разочарован. Обо всем этом говорится очень немного.
Может показаться, что комментируется скорее содержание тропарей и стихир. Но я понимаю поэтику прежде всего как организацию смысла: как наводится смысловой фокус, какие моменты смысла оказываются ключевыми, в каком ракурсе песнопение дает нам увидеть этот смысл (так тропарь, о котором мы говорили, дает Рождество в ракурсе света, а кондак – в ракурсе чуда). Иначе говоря, речь пойдет преимущественно о композиции, то есть о динамике, о делании смысла (собственно, ποίησις [пойесис]). Похожим образом поэтика понимается в классическом труде С. С. Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы».
Каждая из четырнадцати главок этой книги названа первым стихом песнопения, о котором пойдет речь (или его первым колоном: этот термин предпочтительнее в исследованиях молитвословного стиха). Все они построены следующим образом:
1. Сначала даются три версии текста: греческий оригинал, его церковнославянский перевод и сделанный мной специально для этого анализа дословный перевод с церковнославянского на со- временный русский язык (случаи заметных расхождений славянского с греческим отмечаются).
Перевод может сопровождаться комментариями, аргументирующими выбор тех или других русских слов перевода и отмечающих цитаты и отсылки.
2. Вслед за этим идет собственно комментарий к тексту sub specie poeticae. Все переводы с церковнославянского и других языков, приведен- ные в книге, за исключением одного отмеченного случая, выполнены мной. Вторая часть книги – или, если угодно, приложение – это небольшая подборка уже не дословных, а поэтических переводов литургических текстов.
…
Но прежде чем обратиться к нашей стихире, мне хочется сделать еще несколько замечаний общего характера о литургической поэзии. Чтобы понять ее как поэзию (а именно этого мне хочется), легче описывать ее свойства через контраст с поздней авторской лирикой, европейской и русской, которую читатель обыкновенно имеет в виду, когда думает о «поэзии вообще».
Первая особенность ее – это то, что она умна (см. Вступительные заметки). Я не хочу этим сказать, что лирика, которая нам лучше знакома, глупа (хотя на этот счет и любят ссылаться на пушкинские слова о том, что «поэзия глуповата»). Она умна в том же смысле, в каком умны иконопись или храмовое зодчество. Об этом писал С. С. Аверинцев, сравнивая икону с поздней «религиозной живописью». В «религиозной живописи» богословская мысль и сюжет стоят как бы за изображением, которое эту мысль или этот сюжет иллюстрирует. Но на фреске Дионисия, например, движение линий и есть движение мысли, цвет и есть мысль – причем мысль богословская. Фреска погружает зрителя в состояние этой особой, созерцающей мысли. То же делают с поющим и слушающим литургические песнопения. Понять их – не значит вывести какой-то логический «смысл» и сопровождать его каким-то простым «чувством». Понять их – значит уловить их конфигурацию: что здесь центрально, а что дальше отстоит от центра. Я попробую в дальнейшем показать, где, на мой взгляд, расположен смысловой центр нашей стихиры «Мариины слезы». Как замечено многими исследователями литургических текстов, светскими и церковными, в русской православной традиции фундамент богословствования для «обычного» прихожанина составляет литургическая поэзия, а не систематические богословские труды.
Другой особенностью литургической поэзии часто считают ее «анонимность». Это неверно даже фактически: авторы многих песнопений известны, их имена указаны в богослужебных книгах. Так, воскресные стихиры Октоих приписывает византийскому императору Льву Мудрому (886–912), а эксапостиларии – его сыну Константину Багрянородному. Однако нам имя автора стихир или тропарей как будто говорит очень мало: совсем не столько, сколько имя Александра Пушкина или Бориса Пастернака, которым подписаны стихотворения. Это свойство – спрятанность очевидной личности автора – обычно описывают как его послушность канону (автор совершенно не заботится о том, чтобы создать какую-то новую манеру, новую форму: собственную художественную задачу он видит в другом) или же как проявление хорового начала литургической поэзии. Мы можем читать какие-то любимые стихи – допустим, «Я вас любил» – как «собственное» переживание, как «стихи обо мне», но если мы при этом совершенно забудем, что все-таки это сочинение Александра Сергеевича Пушкина, мы окажемся неквалифицированными читателями. И в том же смысле «плохим» слушателем или чтецом стихиры и любого другого рода храмовой поэзии будет тот, кто повторяет их как «сочинение Дамаскина», например, то есть как цитату – а не говорит от «себя лично», точнее: «от нас лично» (обычная форма речи в литургической поэзии – «мы»: образец этому, можно предположить, дан в Господней молитве, с ее настойчивым «мы» и «наш»; псалмы Давидовы, даже если они предназначены для исполнения большим хором, говорят в первом лице единственного числа: «я», «мое»). Первая – и, вероятно, особенно трудная для нашего современника задача – обнаружить в себе это особое «мы». Это никак не «мы» какого-то коллектива, стирающего индивидуальность, к которому одни стремятся, а другие, наоборот, бегут как огня: «Я не из тех, кто ходит строем!» Это то «мы», которое есть в глубине «меня». Это «мы» какой-то внутренней приобщенности. То во «мне», что не приобщено, не причастно каким-то главным смыслам, во время хвалы и мысли просто не слишком интересно – ни «мне самому», ни кому другому. Не знаю, удается ли мне вразумительно выразить этот сложный навык восприятия вещей.
И еще одна особенность литургической поэзии: особый диапазон чувств, которые она выражает, и скорость их смены. По контрасту с поздней лирикой можно принять эти тексты просто за «не-эмоциональные», «статичные»: в них как будто нет тех богатейших оттенков личного переживания, их динамики, которую нам дает искусство Нового времени. Их не просто сличить с той психологической жизнью, к которой мы привыкли в обыденности. Но дело совсем не в «бесчувственности» этой поэзии, а в том, что она живет каким-то другим составом чувств.