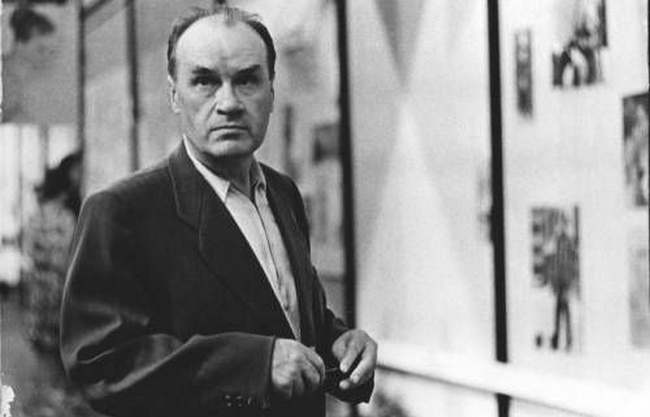В Аукционном доме «Дукат» в рамках выставки Анатолия Лимарева прошла встреча художников его круга и искусствоведов, изучающих его наследие. «Інший Київ» собрал подборку воспоминаний.
Ольга Лагутенко, искусствовед:
С тех пор как Анатолия Лимарева не стало, постоянной экспозиции его работ так и не появилось. В Национальном художественном музее есть немало работ, которые были закуплены во время большой выставки в зале Союза художников на Красноармейской, 12 (сейчас там галерея «Митець»), и их хотелось бы видеть в постоянной экспозиции музея. Но сейчас работы Лимарева демонстрируются только периодически, очень редко. Я ощущаю, как не хватает нам присутствия художников уровня Лимарева, которые выстраивают иерархию – художественную, духовную, морально-этическую – нашего искусства XX века. Иерархию, без которой какие-то современные процессы не имеют определенных координат. Мои студенты уже не понимают, как была устроена советская художественная жизнь, что такое Союз художников, почему нельзя было просто купить материалы для работы, что такое комбинат, заказы, которые давали возможность прокормиться. Конечно, переоценка ценностей интересна для искусствоведов, но, с другой стороны, мы наблюдаем отсутствие стабильных иерархических констант. Очень надеюсь, что когда-нибудь возникнет постоянная экспозиция работ Анатолия Лимарева, мы сможем приходить и слышать камертон, который позволит по-другому осмысливать процессы прошлого и настоящего.
Борис Довгань, скульптор:
Молодежь отрезала советский период – дескать, все это соцреализм. Но никто не знает, что такое соцреализм, кроме меня. А я знаю, потому что мне это сказал Сергей Алексеевич Григорьев: «Соцреализм – это линия партии в образах». Все. А то, что не является линией партии, – просто искусство. Оно и тогда было и хорошее, и плохое, и не имело отношения к соцреализму. С Анатолием Лимаревым я близко познакомился в мастерских на Перспективной. Он ходил к нам, устраивались чаепития или у меня, или у Оли Рапай (Маркиш). И тут же Толя говорил: «Пошли ко мне, посмотрим работу». Он эту «Черепицу и акацию» столько писал-переписывал! Были такие времена, когда он мог буквально за день картину написать, а иногда совсем не мог работать. В один из таких периодов я предложил сделать его портрет, сделал. Он есть в Национальном музее и в Музее современного украинского искусства на улице Кирилловской. После того как Лимарев переехал в мастерскую на Оболонь, мы редко виделись. А впечатления у меня от него самые хорошие – вот Тоша и искусство, и больше ничего. Чистый человек. Очень интересный, очень хорошо говорил, емко, точно. В то время казалось, что так будет всегда – есть Тоша, есть я, мы часто видимся… Для меня он – что-то светлое и святое.
Олег Животков, художник, с 1976 года преподаватель в РХСШ:
В школу я пришел уже сложившимся художником – устал от книжной графики и согласился пойти преподавать. Первый выпуск – как родные, не знал, что я без них буду делать. Учеников я водил к своим друзьям: Григорию Гавриленко (домой, мастерской еще не было), Александру Дубовику, который тогда только начинал свой авангард, и Анатолию Лимареву. Лимарев пришел к нам в класс (а я – последний его живой одноклассник) где-то в 1947 роду, а я учился с 1944-го. С нами в классе были Журавель, звезда, самый сильный, Решетов… После войны к кому-то из них возвращались отцы, но мы никогда не обсуждали тему отцовства, она была запретной. Я сидел с левой стороны, а Лимарев на первой парте. Школа была тогда там, где нынешняя академия, на третьем этаже.
У Лимарева в мастерской стояли работы, к которым он часто возвращался. Он долго писал, не было так, что закончил и отставил, нет, постоянно возвращался. Чем-то это напоминало манеру Шагала, который через десять лет клал сверху новую краску, добавляя напряжение. Так и Лимарев – держал работы под стенкой, время от времени вытаскивал и снова писал. Лимарев говорил так: «В живописи сначала должен быть пожар. А потом его нужно тушить». Такой у него был метод, первоначально – яркое впечатление. У Лимарева свое восприятие пространства, он художник пространства, в его портретах великолепная пластика. И писал он интересно – далеко отходил от работы, долго размешивал краску, потом шел через всю мастерскую, клал мазок и снова отходил, смотреть, как мазок лег.
Ирина Горшкова, художница:
Тоша говорил: «Если я положу палитру рядом, третий мазок будет автоматическим. Раньше я делал два мазка, а теперь один». Вот потому и метался туда-сюда, клал прицельно. Я была соседкой Лимарева по мастерской на Оболони, и так получилось, что в последние его годы мы очень плотно и очень нежно общались. Он вначале сильно скучал по предыдущей мастерской, где остались его друзья. Время было замечательное, особенно летом, потому что рядом Днепр, и приблизительно в четыре утра мы с Тошей шли купаться. Мы много и о многом говорили. В последние годы жизни у него происходило переосмысление каких-то личных моментов, в частности, связанных с отцом. Отец находился в ссылке там же, где был Шевченко, и когда Тоша писал портрет Шевченко, это было про отца. После ссылки его определили на поселение, там у него появилась другая женщина, что, конечно, оскорбило Тошину маму. Сын принял ее сторону. Он говорил мне: «Ну какой же я был дурак. Я ж не был тогда мужиком, не понимал, как это все складывается. Вот сейчас я мог бы к отцу поехать, мог бы с ним встретиться. Но когда я перерос юношеский максимализм, обиду за маму, уже было поздно, папа ушел». Даже подумать нельзя, что мы можем сейчас кого-то судить, но могу только сказать, что Тоша жалел, что в конце не возобновил отношения с отцом.
Была такая история – картины украинских художников поехали на Кубу, на выставку, но на обратном пути в сыром трюме практически погибли. Особенно пострадала картина Миши Вайнштейна, и он после этого начал серьезно изучать технологию живописи. Тоша тоже проникся, даже ездил в Москву, около месяца сидел в Ленинской библиотеке, читал книги. Он пришел к трехслойному методу живописи. Мог одним цветом пройти по пяти работам и оставить их до полного высыхания. Пройти, например, белилами, потом зеленой красной… Не смешивал никогда белила с другим пигментом, но проходил ими сверху, гасил цвет, «пожар». Как-то я пишу картину, а Тоша говорит: «Говняный у тебя голубой цвет. Есть рецепт Леонардо да Винчи – сначала нужно прописать черной краской, а после полного высыхания белым лессировать, и у тебя будет прозрачное голубое небо. Космос черный, атмосфера белая, вот мы и видим голубое небо».
Тоша был ночной человек, правда, мог рано вставать. А ночью есть такое время, когда никто не бегает по этажам, не отвлекает. И вот мы, два придурка, работали, и в полтретьего он мог прийти и сказать: «Пора выпить чай». Он еще и готовил еду на плитке! Вот мы говорим – Тошечка, Оля Рапай, Миша, и непроизвольно на лице появляется блаженная улыбка. Это голос изнутри.
Виталий Призант, художник:
Мое знакомство с Анатолием Григорьевичем произошло просто. Отец был в той среде, где была Зоя Лерман, Юрий Луцкевич, Миша Вайнштейн, Оля Рапай, Галина Григорьева, Александр Агафонов – и Анатолий Лимарев. Я учился вместе с Сашей Луцкевичем, мы писали натюрморты после школы в мастерской у Зои Лерман. Пришло время готовиться к поступлению в институт, многие начали искать преподавателей. А когда мы рисовали, часто заглядывал Анатолий Григорьевич. У него была очень тяжелая финансовая ситуация (это мы слышали по разговорам взрослых), не получалось купить краски, прокормить семью. Заказы по распределению почти не давались, была обструкция, а если распределяли, то выматывали настолько, что все кончалось депрессией. И друзья предложили Лимареву готовить молодежь в институт (он и до этого немножко готовил – детей Фищенко, Новиковского). Сразу организовалась группа: я, Луцкевич, Грицюк (сын Миши Грицюка). Мы занимались серьезно рисунком, школа у Лимарева была строгая, точная. Мне даже трудно говорить «Анатолий Григорьевич», потому что он со всеми стал сразу на ты, представился: «Я – Тоша», и все были друзья.
Первой работой Лимарева, которую я увидел у него в мастерской, в сумерках, был портрет электрика. При свете луны сидит лысый человек, со сложными рефлексами, бликами на голове, и из темноты светятся мужественные глаза. Потом Лимарев рассказал мне историю этого человека, который прошел тюрьму, его ломали, но он все равно остался со стержнем внутри. Мне так понравилась эта многослойная живопись, глубокая, благородная, пространственная! На лысине был слой в палец толщиной. Проучился я у Лимарева года полтора, поступил в институт, и дальше мы просто по-дружески встречались. Потом он был на моей свадьбе, подарил пучок настоящих голландских кистей, желтых, покрытых лаком, и сказал: «Эти кисти надо любить больше, чем жену». Мы долго их берегли. Я водил в его мастерскую уже своих студентов, они так удивлялись – ну где же мэтр, где костюм? И быстро проникались дружелюбием Тоши. Когда он был в ударе, он умудрялся одновременно и писать картины, и говорить о них, и за столом рассказывать какие-то истории, тосты поднимать. Конечно, я много могу рассказать, как писались картины, потому что это и при мне происходило. Даже иногда так – Тоша мог сидеть в кресле, смотреть на картину и говорить: «Пойди, положи ему на нос оранжевую краску», – я бежал. И следующие ученики Лимарева (а их было человек десять, сейчас они живут в разных странах) тоже рассказывали, как бегали класть мазки, и в каком были восторге, что прикоснулись к картинам мастера. Это не официальная школа, а совсем другой метод преподавания, глубокое погружение в среду. Ученики спрашивали Лимарева, что он передал в каком-нибудь пейзаже, свое первое впечатление? А он отвечал: «Нет, слово “впечатление” не подходит к моим работам, я хочу передать ощущение от изображаемого объекта. Это не фотография, не натурализм, это именно мое ощущение от реальности». Наверное, поэтому он годами, дописывая работы, пытался уточнить свои ощущения. И, конечно, человеку, который так тщательно работал над картинами, было невыносимо писать заказные работы. Друзья называли его и «Тошка-жизнелюб», и «Тошка-самоед», потому что он часто грыз себя – что не может в срок сдать заказ, а все вокруг так легко и быстро пишут, что не получается прокормить семью, что не успеет дописать, закончить свои холсты… Многое для него было слишком серьезным и трудным.
Ольга Петрова, искусствовед:
Хочется много говорить о том поколении, о мастерских на Перпективной, об их атмосфере. С Тошей я познакомилась, когда пришла к нему брать интервью для журнала «Творчество». Оля Рапай там была мама для всех, с ее чаем постоянным. Я видела их взаимоотношения с Ольгой, понимала, как он нуждался в этих встречах. Зою Лерман мы называли «Богоматерь», она ни одного бомжа с улицы не пропускала, любого алкоголика поднимала, вела в какое-то парадное, если не к себе в квартиру. Зоя тоже опекала Тошу, и эти дружбы его очень согревали. Для него очень драматическим был момент переезда на Оболонь. Помню его в отчаянном состоянии, когда он говорил: «Надо все перевозить, складывать, ужас! А там стеллажи делать, как это у меня отнимает время – я же писать хочу!» Это был незащищенный ребенок, совершенно для другого предназначенный. У меня никогда не пропадало ощущение его внутреннего напряжения во взаимоотношениях с социумом. Он был добрым, был другом своим ученикам, не держал дистанцию, но социум был чем-то чужим, всегда его мучил. А друзья для него очень много значили, были тем материком, на котором он стоял.
Записала: Марина Полякова